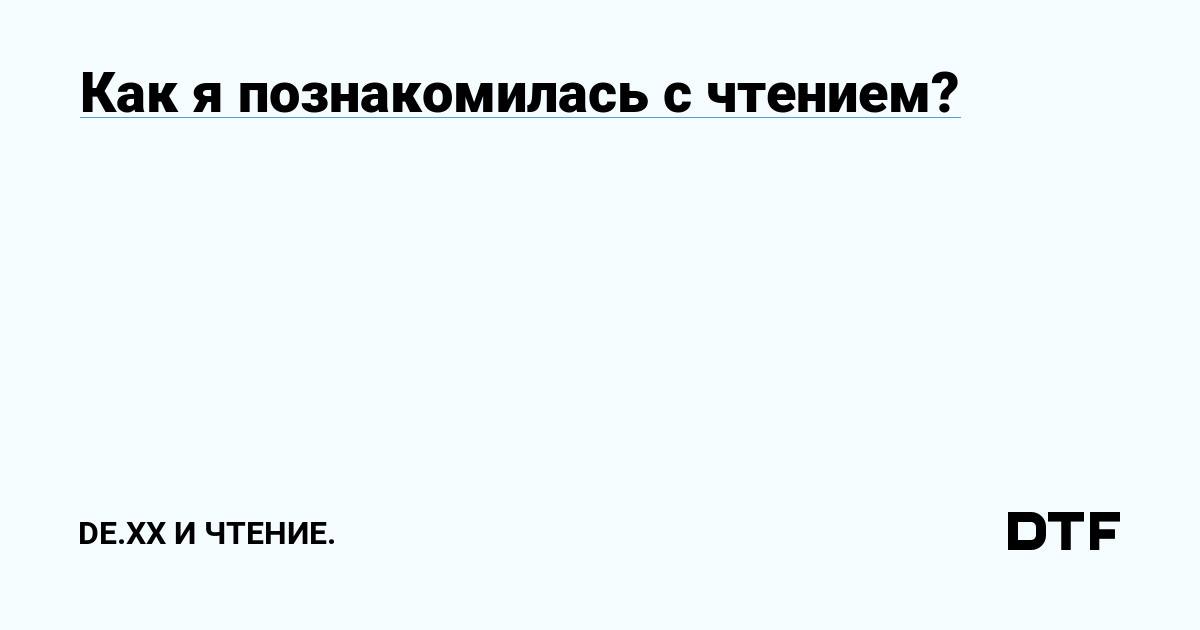О литературной критике, общественных потребностях, «прогрессивности» и «реакционности» в искусстве.
Не так давно я написал небольшую статью про Анатолия Луначарского и его творческое наследие как литературного и художественного критика. Основной пафос статьи заключался в том, что даже век спустя критика и объяснение различных тенденций в искусстве остаётся актуальной. Претензии, высказывавшиеся в адрес живописи и литературы тогда, сегодня без труда можно перенести на кино и сериалы.
Там же я процитировал статью соратника Луначарского Вацлава Воровского — тоже известного и признанного литературного критика своего времени. Как бы сказали сегодня, он был тот ещё «токсик». Недавно я прочитал несколько его статей из которых особенно запомнилась вот эта с громким названием «О «буржуазности» модернистов».
Она была написана в 1908 году, когда революция 1905 года была уже полностью подавлена и писатели принялись её каждый на свой лад рефлексировать. И до чего же происходящее тогда напоминает некоторые явления в массовой культуре сегодня, особенно разговоры о «прогрессивности» того и этого и в чём этот прогресс заключается. Далее просто приведу текст самой статьи. Она небольшая, каждый может прочитать и сделать свои выводы.
«О «буржуазности» модернистов».
I
Когда спала волна общественного движения, так высоко поднимавшаяся в последние годы, общественное внимание было поглощено явлением совершенно другого порядка. На сцену выступила изящная литература и литературная критика.
Но это была своеобразная литература и своеобразная критика. Они носили яркий отпечаток утомленности и издерганной нервной системы, погони за сильными потрясающими впечатлениями, которые уравновесили бы и заглушили не затертые еще впечатления недавнего времени.
В противовес общественности эта литература выдвинула на первый план личность. В противовес благу всех — индивидуальное счастье. В противовес идейности — плотские наслаждения. В противовес потребности мысли — вожделения пола.
Создалась та новейшая школа, которая сейчас еще властвует в литературе, вытеснив с художественного рынка Л. Толстого, Короленко, Горького. Путем приспособления писателя к читателю быстро, невероятно быстро создалось целое направление, поставившее задачей своего творчества исследование и изображение половой жизни, причем от усердия того или другого писателя зависело, получится ли у него произведение искусства или порнография. И своеобразная, не менее «модернистская» критика шла рука об руку с этой литературой.
Но характернее всего, что в этом сугубом восхвалении естественных и противоестественных половых отношений эти господа мнили себя какими-то новаторами, борцами за будущее, пионерами «свободы», «революционерами». Они, видите ли, «разрушали» устарелые предрассудки, ветхие понятия, путы свободной жизни! Они «освобождали» человечество для новых форм бытия и, главным образом, любви, воспевая стихами и прозой прелести всевозможных извращенностей.
Эта вакханалия пошлости разыгрывалась совершенно беспрепятственно. Литература указанного рода захватила центр общественной арены, «дружественная» критика, особенно типа «понедельничных» газет, делала ей бурную рекламу, это течение захватило и толстые журналы, где постепенно укрепилась определенного сорта беллетристика, а за ней и критика. Круговая порука взаимной солидарности и рекламы обеспечивали мирное житие.
И вот явились люди, дерзнувшие нарушить его гармонию. Появился на свет критический сборник под заглавием «Литературный распад». Здесь группа лиц, стоящих на точке зрения исторического материализма, подвергла суровой критике нашу новейшую литературу, с ее шатаниями то в сторону порнографии, то в мистику, то в анархизм.
Вторжение этих непрошеных критиков в мирную идиллию литературного самоуслаждения вызвало, естественно, взрыв негодования. С пеной у рта набросился на авторов «Распада» «понедельничный» Петр Пильский, получивший в этом сборнике достойную, но далеко не снисходительную характеристику. Этого господина, так удобно устроившегося в роли «критика», возмущает появление каких-то вдруг «эстетов», которые позволяют себе высказывать мнение там, где по этикету трактира «Вена» полагается говорить лишь г.г. Пильским и прочим Вьенпупульским.
«Помилуй, — восклицает критик «Свободных мыслей», — над живыми всходами настоящего самозваные (это и есть самое страшное! — П.О.) попы кадят могильным ладаном из своих недоделанных кадил… во имя туманного, словесного журавля в невидимом бутафорском небе пустых фраз у нас отнимают то единственное, чем мы горды и богаты сейчас, то единственно революционное, что есть русская литература, и бунт ее сердец, и пламя, и гнев ее души и умов».
Если в этой тираде отбросить набор трескучих слов, останется одно: новейшая литература Арцыбашевых, Кузминых и Сологубов есть «единственно революционное». Это мы запомним.
Однако на авторов «Распада» обиделись не только Пильские, обиделся на них и г-н И. из «Русских ведомостей». Г-н И. обиделся больше всего на то, что эта новейшая литература и критика характеризуется как «буржуазная», «мещанская». Соединяя эти обе обиды, и г-на Пильского и г-на И., мы можем сказать, что главный недостаток «Литературного распада», по мнению обиженных, в следующем: он разнес новейшее течение в русской литературе как «буржуазное», между тем как оно не «буржуазное», а «революционное». А так как слово «революционный» в устах Пильских не более как трескучий эпикет, то мы заменим его более спокойным и уместным словом «Прогрессивный». Хорошо уже будет, если литература данного типа окажется «только» прогрессивной.
II
Итак, новейшая русская литература не буржуазная.
Чтобы разобраться в этом положении, необходимо сначала условиться относительно понимания самого термина «буржуазный». У нас с давних народнических времен привилось совершенно неправильное толкование этого слова. Противопоставляли буржуазному народный или крестьянский. Теперь ему любят противопоставлять интеллигенцию, модернизм, декаденство и т.п., по-видимому, на том только основании, что эти последние весьма крепко ругают буржуазию. Но ведь мелкий канцелярский чиновник тоже ругает своего столоначальника; значит ли это, что он «отрицает» и «разрушает» чиновничество?
Буржуазный уклад, а с ним и буржуазная психика представляют вполне определенную социальную категорию. Они являются порождением определенных отношений между людьми в борьбе за жизнь, и как раз именно в буржуазном обществе эти отношения настолько отчетливы и ясны, что здесь трудно надолго укрыться за туманными идеями и фразами. Мышление, сохраняющее буржуазный порядок, хотя бы оно и стремилось реформировать его, и мышление, в корне подрывающее его основы, — вот две силы, сталкивающиеся и в политике, и в науке, и в художественном творчестве.
К какой из этих сил действительно примыкает данное литературное или иное течение, об этом нужно судить не по пышным и трескучим фразам разных г.г. Пильских, а по действительному содержанию, настроению и тенденции этого течения.
И достаточно даже самого легкого знакомства с новейшей русской литературой, чтоб заметить, что она целиком вращается в узком круге идей, понятий и вожделений части нашей интеллигенции. Не аристократы Толстого и Тургенева говорят к вам со страниц новейшей литературы, не купцы и мещане Островского, Боборыкина или Найденова, не босяки и не рабочие Горького, даже не мелкое мещанство Успенского или Потапенко. Нет, это сплошь вольнонаемная интеллигенция нашего времени: адвокаты, офицеры, чиновники, литераторы да их куколки-студенты.
И это весьма характерно. Наше общественное развитие создало за последние сорок лет громадные кадры этой деклассированной интеллигенции.
Вышедшая из мелкой буржуазии (разночинцы), получившая среднее или высшее образование, а тем самым порвавшая фактически с породившей ее средой, она образовала своеобразный общественный слой. По своему материальному положению она стоит на уровне той же мелкой буржуазии, по своему развитию она находится на высоте современной буржуазной (крупнобуржуазной) культуры.
Из этого противоречия вытекает ее двойственность: с одной стороны, ее жажда испить до конца всю чашу современных (то есть опять-таки буржуазных) культурных благ, с другой — ненависть и презрение к богатой буржуазии, такой ограниченной и тупой, а в то же время пользующейся всеми этими благами.
Интеллигенция новейшей формации* ненавидит приобретающую и захватывающую буржуазию; в этой ненависти она охотно делает глазки пролетариату и пугает им буржуазию. Но она совершенно чужда стремлениям этого пролетариата, она не верит в них, мало того, она, в сущности (хотя и не всегда сознательно), враждебна им. Ее «идея» — не разрушение буржуазного миpa, завоевание его для себя, устройство в нем уютного для себя уголка. Ибо эта интеллигенция сама есть детище буржуазного строя и погибнет вместе с ним.
______________________
* Речь идет только о новейшей интеллигенции, как она сложилась за последние годы, особенно после политического кризиса.
______________________
Инстинктивное чувство самосохранения заставляет ее устраиваться в этом мире поудобнее, приспособляясь к нему, при всем ее богемском презрении к «буржуазии» (сиречь крупной буржуазии — производящей и торгующей).
Внешняя и внутренняя жизнь этой мелкобуржуазной интеллигенции и нашла свое отражение в новейшей литературе. Если вы возьмете любое из произведений этой школы, даже самое большое из них, «Санина», и постараетесь выделить из него положительное содержание, вы увидите, что оно не идет дальше проповеди «освобождения чувств» и притом исключительно полового чувства.
Освобождение этого чувства от всех «предрассудков» и в результате этого повальное «сотворение прелюбы» во всех видах и разновидностях — вот весь «аквизит» новейшей литературы.
Может быть, это очень прогрессивно, но это всецело в духе «буржуазного мира». Не только санинские многочисленные «прелюбы», но и сологубовское кровосмесительство, и кузминская однополая любовь, и многое другое, до чего еще не додумались наши мудрецы, — все это давно практиковалось развращенными и извращенными элементами буржуазии, все это не только совместимо с буржуазностью, но и необходимо вытекает из всего того уклада безделья, изнеженности, пресыщения и повышенной чувственности, которые обыкновенно сопутствуют нетрудовому накоплению.
Нет, господа модернисты, ваша новейшая литература — доподлинный плод буржуазного общества, его гнилой плод, порожденный им и нужный ему для самоуслаждения.
III
Однако можно быть буржуазным и в то же время прогрессивным.
История знает буржуазию, не только энергично двигавшую вперед общественное развитие, но и безжалостно ломавшую в бурном порыве отживавший старый порядок.
Да и наша литература с середины прошлого века, особенно так называемая «классическая», была насквозь буржуазна. Хотя большинство наших художников вышло из дворянской среды, их стремление к оздоровлению крепостнического уклада рисовало воображению такой порядок и таких людей, которые были, по существу, буржуазны. И в этом своем стремлении она сыграла большую прогрессивную роль; она ознаменовала несомненный шаг вперед в развитии общественного самосознания. Посмотрим же теперь, что дает в этом направлении наша новейшая литература, в чем выражается ее прогрессивность, а по словам г-на Пильского — даже «революционность»?
«Прогрессивность», «революционность» в литературе может иметь двойной смысл. Можно иметь в виду борьбу с отсталостью, шаблонностью, казенщиной в самой же литературе. Так, например, романтики боролись с ложным классицизмом, реалисты боролись с романтиками, каждая новая школа отстаивала свое право на существование от господствующей школы.
Но у нас в России говорить о такого рода прогрессивности, а то и революционности не приходится. После Пушкина у нас не создалось ни одной «школы». Наша литература всегда была реалистична, она всегда имела внутреннюю свободу развития, ее читатель всегда был поразительно терпим и разносторонен. Редкая страна может похвалиться таким благосклонным читателем. Он с жадностью хватает всякое мало-мальски искреннее и талантливое слово. Вы найдете у него на полке и могучего, стихийного Л. Толстого, и тепличного, манерного Бальмонта, и непримиримого общественника Салтыкова, и поэта чистой красоты В. Брюсова, и больного пессимиста Л. Андреева, и восторженного оптимиста М. Горького.
Нет, нашей новейшей литературе не приходится — быть может, к сожалению не приходится — бороться за свое существование.
Но возможно понимать прогрессивность литературы в том смысле, как она у нас всегда понималась, именно в смысле борьбы с общественной отсталостью, косностью, застоем. Является ли новейшая литература прогрессивной с этой точки зрения?
Ни для кого не тайна, что за литература явилась реакцией против предшествовавшего периода. Конечно, реакция может оказаться громадным шагом вперед, если она противопоставляется отрицательному явлению.
Но реакция против прогрессивного явления уже ни в коем случае не может оказаться прогрессивной.
А литература предшествовавшего периода была именно прогрессивной. Она была таковой не только по личному желанию авторов (а иногда и помимо его), но главным образом потому, что отражала потребности и настроения громадного большинства общества, а эти потребности и настроения были прогрессивны.
Потребности общества с тех пор не изменились — им не от чего было изменяться. Но настроение части общества — именно мелкобуржуазной интеллигенции — сильно изменилось.
Это настроение разошлось с потребностями общества. И литература, так крикливо заполнившая собой и своей рекламой общественную авансцену, явилась выразительницей как раз этой «разочаровавшейся» и «уставшей» части интеллигенции. Таким образом, по самому происхождению своему она явилась реакцией на прогрессивный факт, то есть реакционным фактом.
А теперь присмотритесь к ее содержанию. Оно все проникнуто одним призывом: бегите от общественной деятельности, от политики, от догм, программ и всевозможных «пут» — к индивидуальной жизни, к торжеству плоти, к свободе от всякой обязательной морали и даже логики. И характерная вещь: этот призыв не идет дальше самых элементарных физических отправлений. Ведь личная жизнь человека не ограничивается одними этими отправлениями; есть же у него и мыслительные функции, есть способность эстетических восприятий (и притом не только женского тела), есть и творческий дар. Но об этом упорно молчат модные писатели. Они знают и призывают одну только свободу: свободу половых отношений от условностей современной жизни.
Борьба с окаменелой, отсталой моралью, выродившейся в сплошное лицемерие, является бесспорно важным и нужным делом. Но эта борьба может вестись только во имя каких-нибудь новых отношений, новой же морали. Ибо мораль есть общественное регулирование отношений между людьми, ускользающих из сферы права. Если нет такой морали (она может быть, конечно, весьма широка и свободна), немыслимы и сколько-нибудь упорядоченные отношения, ибо тогда решает только право сильного и наглого.
Этот-то аморализм, санкционирующий право сильного и наглого, и проповедует в своем «Санине» г-н Арцыбашев. Но подобная проповедь не есть прогресс по той же причине, что такой аморализм с торжеством хищнической силы и составлял фактическое содержание «старого порядка». Мораль этого порядка, некогда, вероятно, полезная и сдерживающая, ныне уже выветрилась и превратилась в затасканный трафарет. На деле господствовал аморализм сильного и наглого. И когда Санин возводит его в правило жизни, он лишь бессмысленно повторяет действительные правила жизни старых хищников — бессмысленно, ибо те были достаточно умны, чтобы, поступая аморально, держать все-таки высоко знамя своей выдохшейся морали для других.
Новейшая литература только выбалтывает с наивностью желторотого птенца практические правила заматерелых хищников. Литературная реакция умеет только вторить идеям общественной реакции.
И в этом г.г. Пильские усматривают «единственно революционное»! Да, они правы, это «революционно» — но лишь в одном смысле: это контрреволюционно.
IV
В заключение мне хочется остановиться еще на одном вопросе. При всякой общественной реакции, сопровождавшейся литературной реакцией (так было в 80-е годы, так и теперь), новейшее течение упрекало предшествовавшее в «тенденциозности». Фактически получалось, что литература тенденциозна тогда, когда сквозь художественное произведение просвечивает какая-либо общественная идея. Не тенденциозна же она, то есть чисто художественна, тогда, когда она свободна от всяких общественных интересов и идей.
Едва ли нужно говорить, что это деление нелепо. Тургенев был бесспорный художник, а между тем он был весьма тенденциозен. Едва ли есть в нашей литературе более тенденциозный писатель, чем Достоевский. А Лев Толстой? Тенденциозность живет не в романе, а в самом писателе. И если у него есть за душой хоть малейший интерес к общественности — он уже тенденциозен. Другое дело, если беллетристическая форма применяется для популяризации идеи и программы, как, например, у Омулевского, Мордовцева и др. Но здесь мы имеем дело просто с нехудожественной литературой.
Художник претворяет в своем произведении кусок жизни, действительной или воображаемой, и его личное «я», которое является канвой творчества, окрашивает все произведение в тот субъективный цвет, который и указывает «тенденцию» автора. У одного эта тенденция общественная, у другого — антиобщественная. У одного она прогрессивная, у другого — реакционная. Но если данное произведение действительно является продуктом глубоких художественных эмоций, если оно сотворено, а не просто сочинено, тогда эта тенденция действует как некая скрытая, нематериальная сила.
Но бывает, что художники, даже весьма талантливые, увлекаются охватившей их тенденцией, спешат провозгласить сочиненные ими новые идеи и в результате бросают в свет непереваренные, неизжитые образы — искусственные, нехудожественные продукты торопливой мысли. Тогда. действительно тенденция — грубая, кричащая, навязчивая — выступает на первый план, и только из-за ее спины можно разглядеть проблески действительного таланта.
Эта нехудожественная тенденциозность присуща, к сожалению, значительной части новейшей нашей литературы. Отвернувшись с презрением от общественной тенденции предшествовавшего периода, эта литература не обрела покоя художественного творчества, хотя бы и объятого антиобщественной тенденцией. Она навязчиво начала пропагандировать эту свою тенденцию, подгоняя к целям пропаганды образы, типы, положения. Наивное признание г-на Сологуба, что он творит легенду, ибо он поэт, можно отнести ко всему этому направлению. Оно все творит легенду, а не претворяет действительную жизнь, и притом легенду злостную и вредную. Ибо в основе его настроения лежит скверная тенденция побороть и уничтожить общественные стремления ближайшего прошлого. Под впечатлением этого настроения новейшая литература вся пропиталась худшего вида тенденциозностью — антиобщественной и в то же время нехудожественной.
И если будущему историку литературы придется характеризовать нашу теперешнюю модную беллетристику и критику, ему придется указать, что этот больной цветок родился на почве общественной реакции среди части интеллигенции, разочаровавшейся в общественных вопросах, бросившейся очертя голову в личные, вернее, физические наслаждения, но не могущей простить неразочарованным своего прежнего очарования.