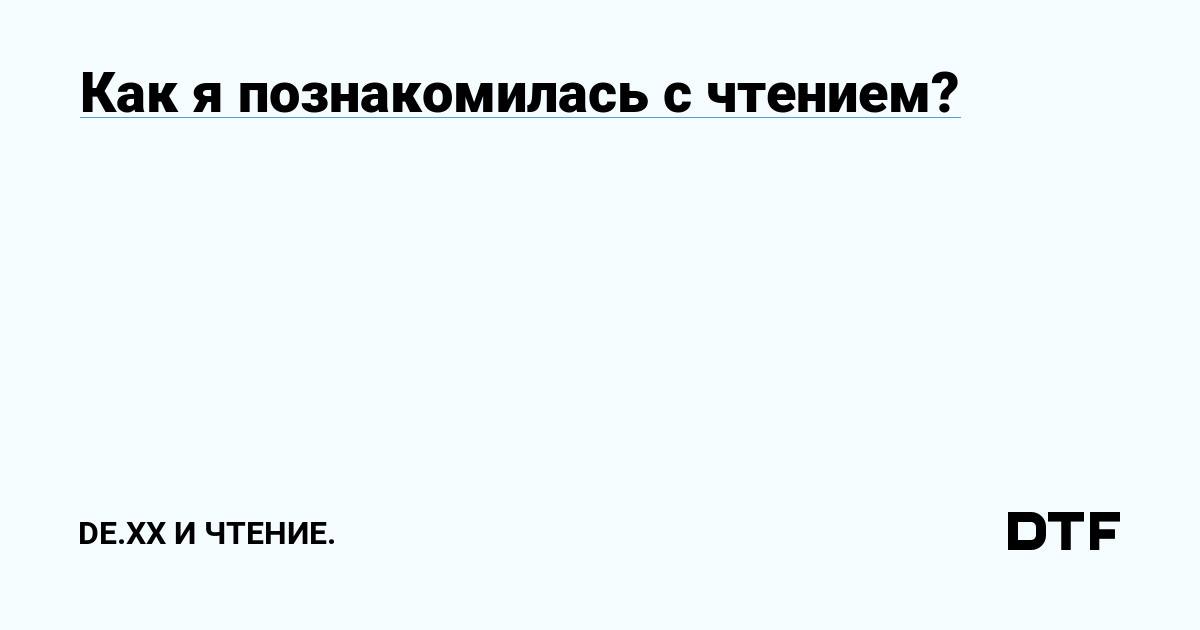Сегодня я расскажу об очень необычной книге, про автора которой вы, скорее всего, никогда ничего не слышали.
Трилогия немецкого писателя Арно Шмидта (1914-1979) «Ничейного отца дети» (Nobodaddy’s Kinder) была впервые напечатана на русском языке «Издательством Ивана Лимбаха» в 2017 году тиражом 2000 экземпляров. Этот тираж до сих пор, почти шесть лет спустя, можно свободно приобрести в физических и интернет-магазинах. О чем это нам говорит (помимо того, что «ИИЛ» не умеют в пиар) — люди не понимают, что перед ними такое и зачем это нужно читать.
И правда, без контекста понять, с чем мы имеем дело, весьма тяжело. Писателя не знают не только в России, но и на родине: если вы пройдетесь по улицам Германии и опросите местных, едва ли хотя бы один респондент вообще поймет, о ком идет речь. Шмидт — это настоящий hidden gem немецкой и мировой литературы, при том что он оказал весьма значительное влияние на мышление и письмо как современников, так и потомков.
В этом материале я попытаюсь объяснить, почему «Ничейного отца дети» — важная и интересная книга для любителей сложной литературы «со смыслом».
Кто такой Арно Шмидт
Арно Шмидт родился в 1914 году в семье офицера полиции, высшего образования не получил. В 20 лет будущий гений устроился работать на текстильную фабрику счетоводом, там же познакомился со своей женой Алисой (с ней он прожил всю жизнь). В 25 Шмидт, который, как и любой вменяемый человек, не выносил нацистов, был мобилизован в гитлеровскую армию.
Ему повезло — практически всю войну молодой человек просидел на фьорде в Норвегии, где, будучи самоучкой, обнаружил недюжинные технические познания и выполнял задачи инженерного толка. Попутно он начал писать рассказы и почти сразу же (еще в очень раннем тексте «Фарос, или О могуществе поэтов») изобрел «новую форму прозы», которой с тех пор методично придерживался и развивал.
За все семь лет войны Шмидт ни в кого ни разу не выстрелил, а в 1945-м, поняв, куда дует ветер, отпросился со своего фьорда в отпуск и (будучи истинным американо- и англофилом) сдался британским войскам. Следующие четыре года были весьма тяжелыми. Лагерь для военнопленных — скитания в качестве беженца — работа переводчиком при полицейской школе на оккупантов-союзников. Никаких денег, никаких перспектив.
Библиофил Арно Шмидт и его жена Алиса потеряли все: кропотливо собранную библиотеку, дом, даже свой город Лаубан (теперь он стал городом Любань в совсем другой стране, Польше, не горевшей желанием принимать служивших в Вермахте немцев обратно). В тридцать с лишним лет Шмидту пришлось начинать с абсолютного нуля в разрушенном войной и разорванном надвое государстве. Если бы не гуманитарная помощь от его вовремя релоцировавшейся в США сестры, семейная пара могла бы вполне буквально умереть голодной смертью. Эти годы описаны с душераздирающей детализацией в романе Шмидта «Каменное сердце» и в «Брандовой пуще», второй (и лучшей) части трилогии «Ничейного отца дети».
Здесь интересная часть биографии Шмидта как человека заканчивается и начинается его биография как писателя: с тоненького сборника из трех рассказов «Левиафан» (1949) и последовавшей трилогии романов «Ничейного отца дети» (1951-1953). Всю жизнь он продолжал страдать от бедности, однако некоторое удачное стечение обстоятельств позволило Арно и Алисе в 1958 году купить крохотный домик в богом забытой, но стоящей уже тысячу лет деревне Баргфелд в Нижней Саксонии.
Там до самой смерти в 1979 году «немецкий Джойс» жил и писал свои удивительные, буквально ни на что в мировой литературе не похожие книги. Всеобщей известности Шмидт так и не приобрел, ни одна из его книг не продалась тиражом больше нескольких тысяч экземпляров, однако еще при жизни писатель, заработав репутацию крайнего эксцентрика, стал культовой фигурой, к которой соратники по перу относились с почти религиозным трепетом.
С 1982-го каждые два года в Германии вручается литературная премия/стипендия имени Арно Шмидта. Сейчас она составляет 36 тысяч евро, едва ли сам писатель когда-либо в жизни столько держал в руках.
Что такое Арно Шмидт
Я неспроста назвал героя этой статьи «немецким Джойсом». Его часто характеризуют подобным образом, в основном чтобы обозначить оригинальность и экспериментальность текстов Шмидта, хотя в действительности между немецким и ирландским титанами не так много общего.
Джойс несомненно оказал на Арно Шмидта сильное влияние, вплоть до того, что ближе к концу жизни последний издал свой собственный Finnegan’s Wake — «СОН ОСНОВЫ» (ZETTEL’S TRAUM), чудовищный том объемом в 1400 страниц и форматом со столик, практически полностью представляющий собой поток словесных игр и похабных каламбуров на тему творчества Эдгара По. На английский этот глобальный опус каким-то чудом в 2016-м все же перевели, а вот русская версия, полагаю, не появится никогда.
Еще одна важная связь с Джойсом: младший друг и верный падаван Шмидта, Ханс Волльшлегер (1935-2007), сам по себе весьма оригинальный писатель, перевел «Улисс» на немецкий (а в 1982 году он стал первым получателем премии имени своего сэнсэя).
Чтобы понять настоящее место Арно Шмидта в немецкой и мировой литературе, необходимо обратиться к теории его переводчицы, Татьяны Александровны Баскаковой (далее ТБ). Эта женщина взвалила на себя героическую, без преувеличений, миссию, и за двадцать лет стахановского труда единолично открыла русскоязычному читателю практически всех ключевых авторов немецкого модернизма XX века. Думаю, если сложить все переведенные ТБ книги в стопку, получится башня толщиной тысяч в десять страниц. Еще тысячи три, не меньше, составят ее подробнейшие, глубокие комментарии к переведенному.
Где-то в середине 90-х я листала в абонементе Библиотеки иностранной литературы книжки с витрины новых поступлений и выбрала для себя тоненькую книжечку с рассказом Арно Шмидта «Тина, или Бессмертие». Нельзя сказать, что рассказ мне очень понравился (может, я его не поняла). Но поразила стилистика…После этого Арно Шмидт стал одним из самых важных для меня писателей и моим главным учителем в искусстве перевода — он много переводил с английского и писал о проблемах переводчиков…Шмидт не хотел быть «красивым», классическим автором. Он хотел говорить о важных вещах со своими соотечественниками, пережившими войну. Вместе с тем у него было огромное желание сохранить прежнюю культурную традицию, которая была дискредитирована тем, что ее использовал нацистский режим — и того же Гёте, и Гельдерлина… Шмидт массу сил потратил на то, чтобы вернуть эту культуру немцам… как бы обновленной, очищенной…Его язык — и немецкий язык вообще — оказался чрезвычайно гибким….В немецком позволительно просто составлять слова заново, как из кубиков, соединяя в одном слове разные корни. И это дает большой простор для создания многозначных, ярких слов — волшебных, которые очень трудно переводить. Каждый раз это вызов для переводчика.
(нарезка цитат из трех разных интервью ТБ)
Насколько я понял после прочтения разрозненных статей и интервью Баскаковой, ее ключевая идея состоит в том, что в Германии течение литературного модернизма после Второй Мировой не переродилось целиком в постмодернизм, как во всем остальном мире, но продолжило развитие в своем собственном, уникальном ключе через усложнение формы и уплотнение нарратива. Такие писатели сохранили модернистскую серьезность в плане постановки моральных и философских вопросов, околорелигиозного отношения к искусству и фигуре Автора.
Всех переведенных ТБ авторов, от ранних довоенных (Альфред Дёблин, Ханс Хенни Янн), через средний послевоенный период (Арно Шмидт, Ханс Волльшлегер) и к ныне живущим писателям (Альбан Николай Хербст, Райнхард Йиргль, Кристиан Крахт), таким образом, связывает непрерывная линия преемственности длиной в столетие.
При этом конкретно Арно Шмидт еще более сложен: он не только является законным наследником модернизма начала XX века, но еще и четко придерживается собственной золотой путеводной нити вдохновлявших его литераторов, которые то и дело всплывают призраками, если не вообще строительными кирпичами в работах писателя: Эдгар По, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Жан-Поль Рихтер, Кристоф Мартин Виланд, Зигмунд Фрейд…
Ладно, контекст вроде бы очертили, хотя бы по контуру. Пора начинать разбор.
Так о чем книга-то?
Формальный сюжет каждого из трех стостраничных романов, входящих в трилогию «Ничейного отца дети», можно описать двумя предложениями.
«Из жизни одного фавна» — некий мелкий клерк в Третьем Рейхе, очень напоминающий самого Шмидта, проявляет паранормальную прозорливость и еще накануне начала Второй Мировой понимает, что война будет проиграна. Он запасается всем необходимым и обустраивает себе в лесной чаще убежище из старого партизанского схрона, а также склоняет (во всех смыслах) на свою сторону симпатичную соседку, с которой в итоге и выбирается из горящего ада.
«Брандова пуща» — некий мутный тип, очень напоминающий самого Шмидта, сразу после окончания войны релоцируется в деревню, под одну крышу сразу с двумя симпатичными соседками. Одну из них он склоняет (во всех смыслах) на свою сторону, соблазняя беседами о литературе и посылками гуманитарной помощи от сестры из Америки, а также много гуляет по лесу и переживает мифологические видения.
«Черные зеркала» — некий выживальщик, очень напоминающий самого Шмидта, через несколько лет после окончания (в этот раз уже ядерной) войны разыгрывает Fallout в одно лицо, много бродит по обломкам цивилизации, бурчит и философствует, любуется на картины в музее и строит жилище. Через некоторое время он встречает второго живого человека на этой планете — симпатичную соседку-выживальщицу, которую — довольно неожиданный твист — ему в этот раз не удается склонить (во всех смыслах) на свою сторону, и она его покидает.
Звучит не очень увлекательно, знаю. Шмидт действительно использует готовые нарративные блоки, не слишком парится по поводу повторяющейся структуры. Все его герои думают и говорят как сам Шмидт, а также являются, как сейчас говорят, «Мэри Сью» — все они одновременно умные, сильные, начитанные, и механизм починить могут, и за барышней поухаживать. Короче, с традиционной точки зрения читать это совершенно не (должно быть) интересно.
Дело не в том, что происходит в книгах Шмидта, а КАК это сделано и О ЧЕМ это на самом деле.
Все творчество Арно Шмидта в целом, и эта книга в частности, характеризуется пятью важными маркерами:
Особая структура текста
Первое, с чем сталкивается человек открывающий Шмидта — это та самая «новая форма письма», которую он придумал, сидя на фьорде. Формат, который автор в какой-то момент назвал «текстовым пуантилизмом», повторяется с вариациями во всех его работах, по крайней мере в ранних. Сейчас мне, как человеку, проштудировавшему всего доступного на русском и частично на английском Шмидта, читать это легко и приятно, но я помню свою первую реакцию и легко представляю, как сознание неподготовленного читателя сопротивляется такой форме.
Шмидт писал тексты на карточках (как, например, Набоков), поэтому все они поделены на блоки абзацев как раз такого формата, который уместится на карточке мелким почерком. Пуантилизм в живописи, как сообщает нам Википедия, это «манера письма раздельными (неизолированными) мазками правильной, точечной или прямоугольной, формы». Вот такими же примерно мазками пишет и Шмидт, сцепляя свои образы в совершенно непредсказуемые конструкции, где метафора и ассоциация не то что существуют не то что на равных с фактами, а регулярно выходят на передний план. Возникает весьма любопытный эффект втягивания в текстоцентричную реальность автора, наверное, его можно сравнить с аниме, где легче показывать фантастические элементы, чем в игровом кино, потому что в аниме весь мир нарисован (= является однородным текстом), в то время как в фильме приходится несуществующие в реальности вещи дорисовывать спецэффектами (=смешение медиумов).
В начале шмидтовских блоков-карточек всегда стоит отдельное слово-заголовок, толчок, указатель, служащий начальной точкой обзора, не важно, восклицание это, мысль или же часть сцены, которая дальше развертывается. Продолжая метафору пуантилизма, можно сказать, что мы сначала видим всю картину целиком, из определенной позиции, и уже потом, читая и перечитывая абзац, начинаем разбирать отдельные мазки-образы, которые его составляют. Нередко при перечитывании всплывают новые интересные смыслы и связки слов.
Особенности пунктуации и использование метафор Шмидтом, а также то, как именно он вставляет их в ткань текста, само по себе заслуживает отдельной монографии (подозреваю, что на немецком это еще более крышесносно).
Шмидт все время искал новые способы выразительности, в том числе метатекстовые (в поздние годы он их нашел). В дебютном «Фаросе, или О могуществе поэтов» писатель набрасывает вот такие идеи, предвосхищая Павича и формат ARG:
Вечером мне пришло в голову : Должны бы быть книги с указаниями для читателей на широких полях. (Пишут же в партитурах : allegro, furioso – –)
Скажем, такими:
Здесь следует прерваться и покопаться в куче сырых золотистых осенних листьев . . .
Здесь следует раскрошить губами кусочек коры . . .
Это можно читать только в дождливый день, у лесного ручья, прислонившись к дереву . . .
Читать в промокшей одежде, после бури . . .
Читать на месте старых воспоминаний . . .
Когда шлепаешь по воде, по надежному галечному дну . . .
В этом месте зажечь свечу . . .
Это следует громко проговаривать вслух . . .
Мифологичность
Следующий слой текстов Шмидта — это хоровод мифологических образов, которые пронизывают всю ткань повествования. В кустах и на полянах живут нимфы, из леса выходит странный сказочный старичок, стихии имеют свои имена и повадки, каждый из немногочисленных персонажей в разных сценах отождествляется с разными языческими богами и образами из мифов.
Все отсылки в своих комментариях к книге разбирает ТБ (иногда даже гораздо более детально, чем хотелось бы, практически не оставляя простора для интерпретации).
Книгоцентричность/Кентавричность
Как говорил переводчик Хайдеггера Владимир Бибихин «Я только в моем слове, больше меня нигде нет». Шмидт — жил в своих словах, а его герои обитали в полноценном мире-как-тексте за десятилетия до того, как французские философы придумали эту концепцию.
Текстоцентричность мира Шмидта закономерно приводит к игровой интонации: все, что происходит с героями, интересно (не в плане «нравится-не нравится», а в плане вовлеченности-с-потенциальной-выгодой), любая бытовая деталь или событие могут привести к неожиданному прорыву в понимании мироустройства, столкнуть с управляющими изнанкой силами, вызвать из памяти непредсказуемую отсылку к древнему тексту или подарить глубокий инсайт о механике человеческого ума.
При этом есть некоторая гарантия, что с героем Шмидта ничего фатально плохого априори случится не может (все плохое уже случилось — с миром, к тому же все тексты написаны от «неубиваемого» первого лица и разворачиваются в настоящем времени), поэтому смелость мысленных экспериментов в принципе ничего не может остановить.
Есть у этого и другое интересное следствие, которое лично мне представляется ключевым для всего творчества автора. Если Пауль Целан (которого тоже переводила ТБ, получив за это Премию Андрея Белого) жил с голосами призраков убитых при Холокосте евреев, то Шмидт и жил, и писал с постоянно сопровождавшей свитой призраков, или скорее духов-хранителей, которыми стали любимые его писатели.
«Новая форма прозы», изобретенная Шмидтом в «Фаросе» — это, по-видимому, мегареальность вместо реальности, наложение оптики текста и оптики наблюдения, чтобы фигура-картинка вместо плоской получилась трехмерной (точнее, четырехмерной, если смотреть со стороны рассказчика).
«выполнять работу театрального осветителя»; «делать зримой мимику души»; «уравновешивать посредством ритма»; «искать себе пищу в заболоченных протоках языка»; «быть не зеркалом: но тем увеличительным стеклом, с помощью которого добывают огонь» — такие метафоры герой Шмидта прикидывает для своего буквенного ремесла, ни одну из них не отвергая, но и не принимая полностью.
Шмидт берет своих кумиров (богов? собратьев?) — Гофмана, По, плеяду почти неизвестных сегодня в России немцев (Виланд, Жан Поль) и превращает их в гигантские преломляющие зеркала. С помощью искажений от столкновения писателей-зеркал с наблюдаемой реальностью он пытается вычислить, уловить отблеск реальности-за-реальностью, несущей подлинный смысл для него самого (то есть для протагониста рассказа). Нечего и говорить, что передать подобный смысл нелегко, а расшифровать его без погружения невозможно.
Фрагмент из «Радиодиалогов», серии передач о препарировании любимых писателей, которую вел Арно Шмидт:
ФОСС: Сервантес, раз уж прозвучало имя твоего безумного рыцаря, скажи мне, был ли субъективный мир в нем настолько силен, что действительно мог уравновесить мир реальный?
СЕРВАНТЕС: Смотри-ка! Ты с самого начала выбрал неверную позицию, если пытаешься разделить субъективный и реальный миры. <...> Для любого человека существует лишь один мир: тот, который он видит и который один только и реален для него.
Для описания уникального метода Шмидта я выдумал термин «кентавричность», не скрою, под впечатлением от веселого и совершенно безумного эпизода соблазнения самки кентавра из его повести «Республика ученых». Двуприродный кентавр — это образ базовой несущей структуры шмидтовского нарратива. Взаимопроникновение текста-текста и текста-реальности вызывают весьма специфическое смещение оптики восприятия у читателя, которую нелегко описать извне.
И да, технически это — все еще модерн, а не постмодерн, так как серьезность смыслов никуда не девается от постоянного обстебывания автором всего и вся.
Как и проблема Левиафана.
Индивидуализм/Гностицизм
Шмидт всю свою жизнь бился как лев за крайний индивидуализм, граничащий с солипсизмом (нетрудно увидеть, каким образом эта концепция родилась из разъяренного ума молодого мобилизованного мужчины, проводящего лучшие годы на гитлеровской базе в Норвегии).
Все ужасное и отвратительное в этом мире Шмидт персонализировал (так же, как это сделали древние гностики) в корне и источнике всех пороков, отце зла, Левиафане. Так называется его ранний рассказ 1949 года, где писатель впервые формулирует концепцию.
Не вполне понятно, до какой степени для Шмидта эта концепция являлась литературной игрой, а до какой — символическим, но все же реальным в ощущениях переживанием (писатель был подчеркнутым атеистом и антиклерикалистом). Если верить Шмидту, то наш лежащий во мраке мир был в каком-то смысле создан монстром по имени Левиафан, чья хищная природа «передалась людям» (напоминает концепцию позднего Кастанеды о летунах-воладоресах как шаблон для непросветленного человеческого ума).
Что такое Левиафан, какое место он занимает в устройстве мира, какие у него свойства, кроме порождения глупости, войны и злобы, есть ли во вселенной Шмидта Бог, раз уж в нем присутствует подобный Дьявол, остается неясным. Впрочем, герои Шмидта, даже признавая существование Левиафана, не уделяют ему слишком большого внимания как явлению, сосредотачиваясь на том, что важно конкретно для них самих — созерцание, действие, чтение и письмо. Быть может, это и правда лучшая линия поведения, если вы оказались в мире, где всем заправляет невидимая космическая сила, злая по своему существу.
Следует, впрочем, отметить, что в текстах Шмидта, в том числе в «Ничейного отца детях», встречаются совершенно буквальные врезки из гностических трактатов Наг-Хаммади:
Мнения по вопросам мироустройства
Как серьезный модернистский автор Арно Шмидт имел совершенно определенный и четкий спектр мнений по каждому из ключевых аспектов того, как устроены жизнь, мир, история.
Если изложить максимально кратко, то будет так: люди тупые; политики мерзкие; летопись человечества есть хроника идиотизма; если Бог и существует, то он на самом деле садист (см. Левиафан); любое общество порочно по самому своему строению; все вокруг представляет собой какой-то бред и абсурд; информация и искусство (в особенности художественная литература) — единственное, ради чего стоит жить; посредственность и масса всегда преобладает по определению; сложные вещи о сложном могут понять единицы (привет читателям и комментаторам этой статьи! — прим.); книга — лучшее, что изобрело и чего заслуживает человечество, она требует почти религиозного отношения; язык — это главное средство познания реальности, и эксперименты с ним есть божественная комедия, на которую стоит положить всю свою жизнь (не то, чтобы в ней было что-то более интересное).
Пара прямых цитат:
Нет ничего более ужасного и плачевного: чем когда два народа с пением национальных гимнов набрасываются друг на друга. (Человек — это «животное, способное кричать «ура!»»: как определение.)
Слепота к краскам встречается редко; слепота к искусству — общее правило.
Искусство для народа ? ! : оставьте этот лозунг нацистам и коммунистам : всё обстоит наоборот : народ (каждый человек !) должен прилагать усилия, чтобы пробиться к искусству ! —
Существует записанная ещё на санскрите поговорка, что из большинства людей можно высечь искру, только заехав им кулаком в глаз ! : так что пусть художник рисует, а поэт пишет — кулаком !
Самое надёжное — это природные красоты. Потом — книги; потом — жаркое с кислой капустой. Всё другое переменчиво и обманчиво.
Шмидт: тогда, сейчас, всегда
Когда я впервые прочитал Шмидта в 2019 году, то был потрясен. Несмотря на достаточно широкий кругозор в литературе, ни с чем подобным я раньше не сталкивался.
Само собой, следующее, что я сделал, проглотив трилогию «Ничейного отца дети» — добыл всего остального Шмидта, изданного на русском. Это очень немного: роман «Каменное сердце», давно ставший библиографической редкостью на грани призрака, повесть «Республика ученых» (изданная в 1992 году почему-то в одном томе с Эрнстом Юнгером) и четыре рассказа, которые пришлось собирать по журналам — «Левиафан», «Гадир», «Фарос или о могуществе поэтов», «Гете и один из его почитателей».
Все это относится к раннему периоду творчества писателя, которое затем сделало очень крутой поворот. Оценить поздний период Шмидта, к сожалению, можно только по пересказам и фотографиям, если вы не весьма состоятельный парень.
После прочтения всего доступного на русском Шмидта (и некоторых текстов, которые удалось достать на английском) могу добавить следующее наблюдение.
Творчество Шмидта отличается весьма любопытной фрактальностью или, скорее, грибничностью — если каждый в отдельности текст может казаться герметичным, замкнутым, недостаточным, непонятным — то после прочтения нескольких как бы отверзаются тонкие очи навстречу внутреннему, фоновому, космическому Шмидту-за-текстами, повторяющиеся мотивы из навязчивых становятся ритуальными, отпирающими некие очень специфические врата смысла. Можно в принципе рассматривать все тексты автора как гигантский метатекст или вольное поле для настоящей (а не той, которую нам предлагал Гессе) игры в бисер образами и смыслами.
Следует также добавить, что в рассказах метод мегареальности (реальности-дополненной-текстом-и-смыслом) Шмидта виден более наглядно, чем в романах, где он немного размазывается на фоне других аттракционов, вроде бесстыдной психоделичности сцены бомбежки-агонии в «Жизни фавна».
Но читать стоит, безусловно, и большое и маленькое. Теперь, хотелось бы верить, у вас есть для этого нужная оптика. Все это было просто предисловием к прекрасному автору, но прочесть его нужно уже самостоятельно — и читательская работа в этом процессе вполне близка к алхимической. Какие усилия приложите — такой результат и выйдет. Открытые новому найдут в Арно Шмидте удивительный, ранее неизвестный источник творческого нектара. Ну а кто не поймет — может, ему и не надо.
Credits roll
Закончить текст мне хотелось бы пространной цитатой из книги:
Человеческий род от природы обеспечен всем, что необходимо для восприятия, наблюдения, сравнения и различения всевозможных феноменов. В его распоряжении — не только непосредственно существующее; он может, чтобы стать мудрее, использовать не только собственный опыт: но и опыт всех уже прошедших эпох, соображения многих проницательных людей, которые очень часто, если не всегда, правильно видели суть вещей. Благодаря этому накопленному за века опыту и этим соображениям уже давно установлено, по каким естественным законам должен жить и действовать человек — в каком бы обществе он ни обретался и в каком бы состоянии духа ни пребывал, — чтобы быть, насколько сие возможно, счастливым. Уже было неопровержимо продемонстрировано, что полезно, а что вредно для человеческого рода. в любые времена и при любых обстоятельствах; уже найдены правила, применение коих может предохранить нас от ошибок и ложных выводов; мы с отрадной определенностью знаем, что надлежит считать красивым или уродливым, правильным или неправильным, хорошим или дурным; мы знаем также, почему это так, и — в какой мере это так; невозможно измыслить никакой глупости, никакого порока и никакого злонамеренного действия, нелепость или вредоносность которых не были бы уже давным давно доказаны с не меньшей ясностью, чем любая из теорем Евклида: И тем не менее! Невзирая на это, человечество вот уже несколько тысяч лет вертится все по тому же замкнутому кругу глупостей, ошибок и преступлений; не становится, будь то благодаря чужому или собственному опыту, умнее, а только, да и то в лучшем случае (если вспомнить об отдельных высокоразвитых личностях), — проницательнее, образованнее, остроумнее ; но мудрее — никогда.
P.S.
Я выражаю бесконечную благодарность Андрею Н. И. Петрову, который сподвиг меня на написание этой статьи и любезно согласился помочь с ее редактированием.
За помощь со сканами текста спасибо Михаилу Монастыреву (не было книги с собой в эмиграции, а электронки не существует).
Спасибо конечно и вам, отважные люди, которые дошли до конца текста, и добро пожаловать в комментарии.
P.P.S. Для внеклассного чтения всем любителям сложного и немецкого крайне рекомендую две статьи от переводчицы Шмидта: о Волльшлегере и о Целанн/Дёблине.