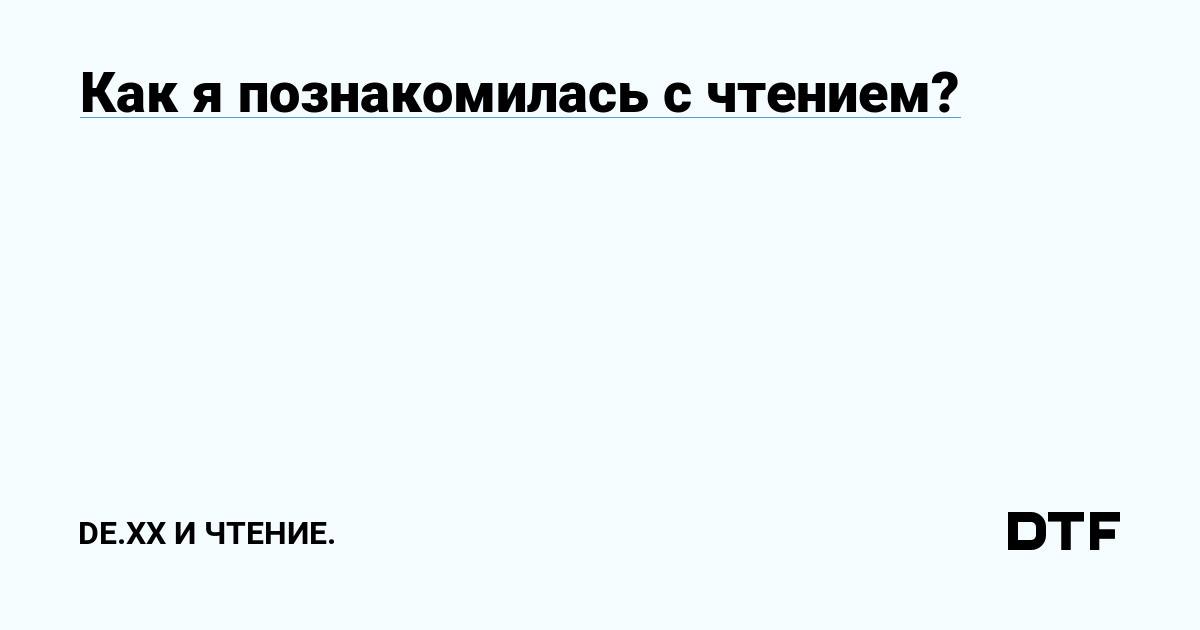Эссе — самый занимательный, с моей точки зрения, способ лицезреть автора любимой прозы в необычном контексте или вообще познакомиться с ним впервые. От Харуки Мураками, который из владельца бара превратился в неплохого марафонца и отличного писателя, до Дэвида Фостера Уоллеса с подробным репортажем c церемонии вручения «Оскара» для порно фильмов.
Дисклеймер для комментаторов: не все книжки, о которых я говорю в этом тексте, являются сборниками эссе в чистом виде (хотя само понятие достаточно аморфное), но, безусловно, относятся к категории около-нон-фикшн-слэш-размышления-наблюдения (собственно, различные эссе, очерки и репортажи) плюс элементы художественной прозы в минимальной концентрации.
Содержит субъективное мнение и критику постмодернизма.
Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге» В общем, так я и начал бегать. Мне было тогда тридцать три года. Еще молод, но уже не юн. В тридцать три умер Иисус Христос. В тридцать три начался закат Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Если сравнить жизнь с горной дорогой — этот возраст будет, наверное, одним из важнейших перевалов. Именно в тридцать три я осознал себя бегуном и — пусть и поздновато отправившись в путь — стал писателем. Харуки Мураками
Самое замечательное то, что эта небольшая книжка не только о беге. Она еще и о метафоре бега. Она о том, как автор воспринимает свое творчество. О том, как умение не забрасывать начатое помогает нам стать лучшей версией себя. О том, как смириться с тем, что возраст берет свое. О том, как понять себя.
На самом деле, Мураками в этих эссе не размышляет о высоких и сложных материях, но все равно дает феноменальную пищу для размышлений, на фоне которой самые абстрактные и изощренные философские теории выглядят как детский лепет.
К тридцати Мураками уже состоялся как предприниматель/владелец бара — жизнь не богатая (держать заведение в Японии — дорогое удовольствие), зато стабильная. Когда на него снизошло озарение, что пора написать роман, он понятия не имел, к чему это приведет — рукопись выиграла в конкурсе. Совмещать дневную работу в баре и ночное сочинение романов оказалось невозможным. Пришло время сделать выбор. Он решил поставить на кон все: продать бар и посвятить время писательству. Если бы Харуки Мураками не последовал творческому импульсу, то мы бы никогда не познакомились с прозой легенды японской беллетристики.
Конечно, весь день сидеть за столом и строчить книги, как Стивен Кинг, не всем дано. Мураками не исключение. Сначала писатель воспринимал бег, как плату за возможность писать и поддерживать приличную физическую форму. Постепенно бег превратился в обязательный ежедневный ритуал, прям как трансцендентальная медитация для Дэвида Линча. Кинетическая энергия ежедневных пробежек переходит в потенциальную энергию будущих романов — неплохой обмен для человека, занимающегося творчеством.
Хорхе Луис Борхес «Зеркало загадок» Книга — не просто словесное устройство или набор таких устройств; книга — это диалог, завязанный с читателем, интонация, приданная его голосу, и череда переменчивых и несокрушимых образов, запавших ему в память. Этому диалогу нет конца; слова «amica silentia lunae» говорят сегодня о трогающей сердце, безмолвной и лучистой луне, а в «Энеиде» говорили о новолунье, о темноте, позволившей грекам пробраться в осажденную Трою… Хорхе Луис Борхес
Дано ли нам понять Борхеса? Хороший вопрос. Думаю, что нет. Зато через творчество великого аргентинского писателя можно понять всех авторов прошлого и будущего и их произведения. По Борхесу, книга — словно набор гиперссылок на другие книги. Человечество на протяжении нескольких тысяч лет собирало информацию о мире, людях, о чем угодно. И слепой старец Борхес оказался прав. Литература является самым продвинутым средством коммуникации.
Для меня главным достоинством прозы Борхеса является «речитабельность». Каждое прочтение приносит что-то новое. Новые детали, литературные референсы и метафизический поток из слов и образов, который никогда не застывает в текущем моменте.
Есть у русскоязычных изданий Борхеса еще одно полезное свойство — компактность. Их легко таскать с собой и получать бескомпромиссный опыт общения с бумажной книгой. Хотя та книга, о которой я повествую сейчас является самой крупной по количеству страниц и немного выбивается из этой концепции.
Хорхе Луис Борхес — не просто писатель. Он самый-самый литературный гик в истории человечества. Борхес понимает как читать книги, чтобы получить большее, чем сотню-другую пролистанных произведений. Он способен извлечь тысячи «бонусных» страниц размышлений из работ Мигеля де Сервантеса и Данте Алигьери, и они не будут выглядеть вымученными и притянутыми за уши. И мы многому можем у него научиться.
Станислав Лем «Мой взгляд на литературу» Мой взгляд на литературу прост. Нет таких вопросов — ни национальных, ни мировых — которых не касается литература. Ее обязанность — обращаться к прошлому, настоящему и будущему. Разумеется, ни один человек, а значит — и ни один писатель, не может охватить все это сам. Но к этой недостижимой цели он должен стремиться. Литература — связующее звено духовной жизни, гарант сохранения этнической тождественности и определенный инструмент познания. Станислав Лем
Больше всего из 800-страничного колосса со статьями и эссе за авторством Лема меня заинтересовали размышления о природе постмодернизма (плюс послесловие к роману Филипа Дика и оценка творчества Борхеса, но об этом распространяться не буду).
Станислав Лем, мягко говоря, недолюбливал это направление искусства. Для него постмодернизм — «широко разливающаяся невразумительная болтовня», «цитаты, соединенные маловразумительным вербальным клеем» и «разжижение интеллектуальной атмосферы». И я не могу не согласиться с точкой зрения польского писателя, потому что сам прошел путь от любви до ненависти к постмодернистскому творчеству. В своих наиболее поздних проявлениях постмодерн превратился в клоунаду и цирк уродов — провокационная форма без содержания, хотя извращенные эксперименты над текстом в творчестве авторов прошлого века меня до сих пор забавляют.
Чтение нон-фикшн текстов Лема — особое удовольствие. Каждое предложение Лема словно сошло со страниц научного журнала или диссертации. Конечно, не всем по нраву «высокоуровневый» стиль польского автора, тенденции к словообразованию и возведению языковых конструкций, но идеи и концепции, которые он препарирует, актуальны на все времена.
Марсель Пруст «Памяти убитых церквей» Прочесть только одну книгу писателя — то же самое, что встретиться с ним всего один раз. Беседуя с человеком единожды, мы можем заметить в нем некоторые своеобразные черты. Но счесть их характерными и определяющими можно только в том случае, если они будут проявляться в различных обстоятельствах. Марсель Пруст
Архитектура и Марсель Пруст. Что может быть прекрасней? Эстетический манифест французского писателя предвосхитил септимальный цикл «В поисках утраченного времени».
У многих авторов развито умение наблюдать, но у Пруста оно воплощается в форме, недоступной никому другому. Писатель даже обыденную поездку на автомобиле сравнивает с «абстрактной музыкой коробки передач» и задумывается «об известной гармонии сфер, вращающихся в эфире». Из таких небольших деталей складывается картина времени и воспоминаний — центральный мотив жизни и творчества Марселя Пруста.
Единственное, за что я могу пожурить архитектурные очерки/путеводитель по церквям и соборам Пруста, — он слишком часто ссылается на критика-искусствоведа Джона Рескина в своих культурных изысканиях. Наверное ему, как молодому писателю, нужен был авторитет, на которого можно было бы опереться. Марсель Пруст тогда еще не подозревал, что станет фигурой гораздо более значительной и почитаемой, чем те, кем он восхищался в начале литературного пути.
Когда Пруст работал над статьей «Смерть соборов», он сетовал на безразличие государства к сохранению архитектурных памятников еще до того, как немецкое оружие погрузило Европу в хаос. В контексте Первой мировой название статьи приобретает еще более трагичное и пророческое значение.
Жан Бодрийяр «Общество потребления» Предметы не столь уж служат для какой-то цели, прежде всего и главным образом они служат вам. Без этого добавления персонализированного «вы» к простому предмету, без этой тотальной идеологии личной услуги потребление не было бы самим собой. Жан Бодрийяр
Во второй половине XX века произошел окончательный поворот от общества, в котором главенствуют взаимоотношения в духе человек-человек, к обществу, в котором товары диктуют индивиду, что стоит любить и ненавидеть. Сенсорная перегрузка и информационный шум рекламы. Экзистенциализм на продажу, когда каждый может стать «лучшим из лучших», если купит новый гаджет, который на 0,2% превосходит предыдущий. Символы, обмен, потребительская стоимость. Культ распиаренной вещи. Как бы это печально не звучало, но сейчас это все еще объективная реальность постиндустриализма — даже Йен Кертис в песне Digital не смог ответить на вопрос: Как не превратиться в цифровой бульон для неодушевленных предметов и остаться человеком?
Любопытны размышления Бодрийяра и на тему популярного искусства, с которыми я могу провести актуальные параллели. В прошлом веке Энди Уорхол мечтал стать машиной, способной штамповать произведения искусства. Сейчас нейросети перерабатывают иллюстрации художников зачастую без их согласия и какого-либо соблюдения авторских прав (хотя, казалось бы, постиндустриальное общество ревностно относится к авторскому праву, патентам и т.д. — сбой в матрице), как мясорубка делает фарш, в полуфабрикаты народного потребления и корпоративного обогащения.
В общем, Бодрийяр — центральная фигура в западной философской мысли 20-го века — братья/сестры Вачовски не дадут соврать. Хотя в этой работе Бодрийяр рассматривает не свои знаменитые симулякры, а другую сторону постмодернизма, культуру потребления, ознакомиться с данным сборником эссе однозначно стоит. Во-первых, это самая «читабельная» книжка философа — он еще не окончательно съехал с катушек в сторону заумного академического лексикона/постмодернового потока бреда вперемешку с неомарксизмом и фрейдизмом, как в более поздних работах. Во-вторых, все, что происходит в современной массовой культуре с точки зрения коммерции и капиталистического идолопоклонства, так или иначе, пересекается с творчеством французского философа, воплощая самые мрачные прогнозы через призму концепции — «общество, которое потребляет себя».
Владимир Набоков «Лекции по русской литературе» Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый цвета. То, что небо на восходе солнца может быть бледно-зеленым, снег в безоблачный день густо-синим, прозвучало бы бессмысленной ересью в ушах так называемого писателя-«классика», привыкшего к неизменной, общепринятой цветовой гамме французской литературы XVIII века. Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь писатель, тем более в России, раньше замечал такое удивительное явление, как дрожащий узор света и тени на земле под деревьями или цветовые шалости солнца на листве. Описание сада Плюшкина поразило русских читателей почти так же, как Мане — усатых мещан своей эпохи. Владимир Набоков
Набоков, в отличие от многих из нас, не всегда возносит русскую литературу на пьедестал, а скрупулезно препарирует и разбирает классику на составные части. Он не стесняется критиковать мастодонтов отечественной литературы за слабые и поверхностные идеи и отмечать удачные решения.
Например, по мнению мэтра, у Гоголя не получается создать убедительных второстепенных персонажей, которые являются полноправными действующими лицами в «Мертвых душах» нормальными методами. Вообще, проза Николая Васильевича — очень своеобразная вещь, лихорадочный сон и гротеск в духе лучших работ Дэвида Линча, который ошибочно считают отражением русской действительности XIX века. Гоголь ломает повествовательные традиции, сформированные французскими писателями, той эпохи об композиционные приемы, которые у других авторов вызвали бы недоумение. Классик прибегает к объемным лирическим отступлениям и мелким характерным атрибутам быта и внешности, чтобы дать экспозицию для образов второго плана и отштамповать их барельефы на полотне поэмы, даже не прибегая к диалогам и действию. За каждым гоголевским персонажем тянется шлейф из метафор, символов и декораций, который повергал в ужас американских слушателей лекций Владимира Набокова высоким порогом вхождения, но мы сможем совладать с прозой Николая Васильевича, не так ли?
Курт Воннегут, Сьюзен Макконнелл «Пожалейте читателя» Так и пришел конец моей мечте играться со словами, как Пабло Пикассо с красками или как мои джазовые кумиры — со звуками. Если я нарушу все правила пунктуации, назначу словам новые значения по своей прихоти и нанижу их вперемешку, я просто не буду понят. Так что вам я тоже не советую писать в стиле Пикассо или в джазовой манере, если вам, конечно, есть что сказать и вы желаете быть понятыми. Курт Воннегут
Это одна из тех книг-оборотней, о которых я предупреждал курсивом в начале. Заявлена как руководство по написанию прозы от Курта Воннегута, но на самом же деле является сборником эссе Сьюзен Макконнелл, ученицы великого автора. И это не есть плохо. Ее текст отлично работает на трех уровнях: как мини-биография Воннегута, как разбор некоторых тропов из его же романов, как полезные лайфхаки для тех, кто любит сочинять тексты. Макконнелл спасает то, что по всем романам Воннегута разбросаны советы по написанию прозы — некоторое подобие диалога с автором у нее все-таки получается выстроить. Возможно, такой необычный формат — как раз то, что нужно.
Конечно, я не могу не поговорить о творчестве талантливого писателя отдельно.
Курт Воннегут один из немногих представителей постмодерна, которого можно рекомендовать всем: и литературным снобам, и адекватным любителям почитать. Дело в том, что лаконичная форма романов Воннегута нисколько не мешает гениальному содержанию. Чтобы посмеяться, взгрустнуть и задуматься не нужно продираться через нагромождения пост-мета-альфа-зета-иронии и терминов из термодинамики, характерных для романов Пинчона. Не сказал бы, что Томас Пинчон настолько невыносим, но Воннегут все же в меньшей степени держит читателя за идиота.
Дэвид Линч «Поймать большую рыбу» Одной идеи должно быть достаточно для начала, потому что дальше всегда следует игра в поддавки. Шаг вперед, два назад, построение и разрушение. Огромную роль в данном процессе играет природа. Когда вы запекаете что-то на солнце или используете плохо совместимые материалы, то есть сочетаете несочетаемое, возникает новая реакция. Далее вы садитесь на место и долго разглядываете получившийся результат. В какой-то момент вы обязательно встанете на ноги и броситесь делать следующий шаг. В этом заключается философия действия и противодействия. Дэвид Линч
«Поймать большую рыбу» — единственный книжный источник, целиком написанный самим Линчем и слегка приоткрывающий завесу тайны над творческим процессом режиссера. Здесь Линч рассказывает не только о ментальной стороне производства своих картин и кино- картин, но и об искусстве, трансцендентальной медитации и правильном подходе к генерации идей. Повествование разбавлено автобиографическими кусочками и случайными мыслями и наблюдениями художника/режиссера. Как я говорил ранее в том лонгриде, «Поймать большую рыбу» — крайне полезная штука для тех, кто занимается творчеством в любых формах и проявлениях.
Я не против написать еще несколько абзацев об апостоле артхауса, благо творчество Линча превратило меня в фаната неординарного кино, но предпочту остаться лаконичным, в духе текстовых зарисовок великого режиссера.
Умберто Эко «С окраин империи» В благополучных пригородах средний управленец с прической бобриком все еще воплощает собой идеал доблестного римлянина, но его сын уже носит волосы, как индеец, пончо — как мексиканец, играет на азиатской цитре, читает буддийские тексты или брошюры Ленина и часто умудряется (как случалось во времена поздней Империи) совмещать Гессе, зодиак, алхимию, маоизм, марихуану и технику городской герильи. Умберто Эко
Умберто Эко стал олицетворением, казалось бы, несовместимых вещей — постмодерн и средневековая культура. Еще более странным выглядит его мировоззрение, когда он проецирует средневековье на 70-е годы XX века. Для него Соединенные Штаты Америки — страна, состоящая из кунсткамер прошлого и массовой культуры настоящего. Здесь Крепость Одиночества Супермена и музей истории Нью-Йорка воплощаются в одной системе координат. Эко так же, как и Бодрийяра, интересует тема оригиналов и копий в западной модели общества потребления. Воспроизводство европейского искусства — характерная черта Нового Света, который даже Тайную вечерю да Винчи превратил в трехмерный аттракцион для туристов.
Пару сотен страниц спустя, когда Умберто Эко вернулся на окраины империи, концепция нового средневековья уже не кажется таким уж преувеличением со стороны итальянца. Эко перечисляет характерные аспекты Темных веков и второй половины XX века в 13 параграфах. Например, экономический кризис + несколько случаев неудачного стечения обстоятельств = проект апокалипсиса в стиле падения Западной Римской империи. Конечно, если немного пораскинуть мозгами, проецировать средневековье с его «кровавыми побоищами, нетерпимостью и смертью» на современность — типичная постмодерновая забава, но натягивать сову на глобус — приятное упражнение для разума. Да и в каждой шутке есть доля шутки.
Юкио Мисима «Книга самурая» При этом я считаю, что искусство, уютно устроившееся внутри самого себя, обречено на увядание и смерть. Я не сторонник принципа «искусство ради искусства». Ведь если искусству ничто не угрожает и не оказывает на него стимулирующего влияния, воздействуя извне, оно быстро сходит на нет. Литература и искусство берут материал из жизни. Жизнь — это и мать, и заклятый враг; она таится в самом писателе или художнике и одновременно представляет собой извечную антитезу искусства. Юкио Мисима
Подход Мисимы к фундаментальным вопросам бытия сильно отличается от классического западного экзистенциализма, популярного в середине прошлого столетия. Самурайский кодекс Бусидо (Хагакурэ, «Сокрытое в листве») стал ориентиром для писателя, который считает смерть украшением, венчающим земной путь человека.
Комментарии Мисимы к Бусидо — это парадоксальные рассуждения самурая, — решимость, нравственность, мудрость, праведность, одержимость смертью — неспособного расстаться со своими убеждениями.
Я даже не буду пытаться декодировать этот сборник эссе через свое мировоззрение. Пусть лучше каждый составит свое мнение сам. Там достаточно пищи для размышлений и без моих ремарок.
Филип Киндред Дик «Блуждающая реальность» Мы, читатели фантастики, читаем ее, потому что любим испытывать эту цепную реакцию в мозгу, начатую какой-то новой идеей в тексте; потому что самая лучшая научная фантастика предполагает партнерство автора и читателя, в котором творят оба — и радуются этому. Радость — вот последний и самый важный ингредиент научной фантастики; радость от открытия нового. Филип Киндред Дик
Вся жизнь и творчество Филипа Дика сводятся к трем вопросам. Что есть человек? Что есть реальность? Что есть высшая сущность?
У многих сложился образ Дика-раздолбая-наркомана с ворохом психических проблем, которому трудно поддерживать связь с реальностью — а) это не совсем соответствует действительности (по моей оценке не более 20% его библиографии было написано под воздействием стимуляторов, а самые сильные произведения были созданы благодаря исключительному умению составлять буквы в слова и превращать окружающую действительность в романы; см. «Филип К. Дик. Жизнь и Всевышние вторжения»); б) затмевает таланты Дика, радеющего за процветание научной фантастики — писатель поддерживал тесный контакт с писателями и читателями, посещал sci-fi фесты, крайне высоко отзывался о коллегах по ремеслу и не стеснялся ругать Роберта Хайнлайна.
А еще тут есть две главы несостоявшегося продолжения «Человека в высоком замке» и замечательное эссе «Как создать вселенную, которая не развалится за два дня». И это лишь малая доля того, что может предложить «Блуждающая реальность».
Людвиг Витгенштейн «Философские исследования» Мы говорим о понимании предложения в смысле, в котором это предложение можно заменить другим, сообщающим то же самое, но и в смысле, в котором данное предложение нельзя заменить другим. Людвиг Витгенштейн
Людвиг Витгенштейн — человек, который вооружил писателей и философов второй половины XX века «языковой игрой». «Философские исследования» — краеугольный камень постмодернизма: от энтропии Томаса Пинчона до 1079-страничного романа Дэвида Фостера Уоллеса. Это также идеальная книжка, чтобы размять извилины, погрузившись в поток сознания австрийского философа, и познакомиться с системой, декодирующей действительность через слова, символы, контекст, эмоции, внутренний монолог и инструменты логики.
Алексей Поляринов «Ночная смена» Представьте, что вы, скажем, открыли новый роман Виктора Пелевина и вместо его обычных буддистских прогонов, каламбуров и шуток читаете настоящий, без дураков, исторический роман о Японии XVIII века. Вы ждете подвоха: ну, разумеется, это постмодерн, стилизация, это все как бы в кавычках, да-да, мы поняли, автор подмигивает, сейчас начнется деконструкция, метаигра, цитаты или что-нибудь в этом роде. Но нет, вы дочитываете до конца — и ничего такого не происходит, роман остается собой до самой финальной строки… Алексей Поляринов
Я крайне скептически отношусь авторам русскоязычной литературы XXI века и их творчеству. Пациент скорее мертв, чем жив. Но бывают приятные исключения. Переводчик и писатель Алексей Поляринов умело преобразует свой богатый бэкграунд в чтении и работе со словом в интересные идеи и эссе (чего не могу сказать о его художественной прозе: хотя «Риф» показался мне сносным, но «Центр тяжести» — совсем не то, что я жду от отечественных писателей, уж точно не очередную антиутопию).
Благо, когда Поляринов рассказывает о литературе и сопутствующем материале, его интересно читать: мета-Сервантес, феномен глобального романа, Роберто Боланьо, гайд по библиографии Дэвида Митчелла, взлет и падение Чарли Кауфмана, киноманские романы, Джонатан Франзен и трагедия его литературного соперничества с другим американским писателем.
Дерек Джармен «Хрома. Книга о цвете» В больнице в глаза закапывают жгучую белладонну, чтобы расширить зрачки, а затем делают фотографию со вспышкой. В этом есть что-то от Хиросимы? Я чудом выжил? На долю секунды появляется небесно-голубой, а затем мир окрашивается маджентой. Дерек Джармен
Есть режиссеры, способные воплощать цветовую палитру на экране, — Стэнли Кубрик, Николас Виндинг Рефн и Уэс Андерсон, например. Есть режиссеры, которые умеют рассказывать о цвете. Дерек Джармен относится ко второй категории. Еще он художник-авангардист.
Фрагментарный и хаотичный стиль повествования Джармена выстроен в лучших традициях прозы Дональда Бартельми, который, кстати тоже, не раз обращался к теме изобразительного искусства в своих рассказах. Впрочем нарратив британца окрашен в стерильные, больничные тона. Джармен чувствовал приближение старухи с косой, когда сочинял абзацы для сборника «Хрома». То, что в качестве финальной темы он выбрал цвета и их историю в культурно-историческом спектре и в своих воспоминаниях, характеризует его как человека, окончательно связавшего жизнь и смерть с творчеством.
Дэвид Фостер Уоллес «Избранные эссе» Сейчас мне тридцать три, и кажется, что уже прошло много времени и с каждым днем оно проходит все быстрее. Изо дня в день я делаю разные выборы на предмет того, что для меня хорошо, важно и приятно, а потом вынужден жить, пренебрегая всеми остальными вариантами, которых меня эти выборы лишают. И я начинаю видеть, что с ускорением времени круг выбора будет сужаться, а лишения — преумножаться, пока я не достигну какой-то такой точки на ветви пышно ветвящейся сложности жизни, когда наконец необратимо войду в одну колею и время быстро протащит меня по этапам стазиса, атрофии и распада до самого конца — и все мои старания перед лицом времени будут впустую. Это страшно. Но к этому ведет мой собственный выбор, так что это кажется неизбежным: если я хочу быть мало-мальски взрослым человеком, то мне придется делать выбор, жалеть о том, чего лишился, и пытаться с этим жить. Дэвид Фостер Уоллес
Надеюсь, вы простите мне эту гигантскую цитату — гениальный образчик прозы и саморефлексии автора «Бесконечной шутки» — просто не могу устоять перед подобными пассажами текста. Я давно ждал, когда что-нибудь из нехудожественной литературы Дэвида Фостера Уоллеса появится в издании на русском языке (чтобы читать его в оригинале нужен словарный запас в несколько десятков тысяч слов, а также понимание локального контекста, в котором существовала Америка на протяжении последних пятидесяти лет: от передач и рекламы на ТВ до менталитета среднестатистического американца, выросшего в 60-е и 70-е). Особенно хочу отметить очерк о семидневном круизе по Карибскому морю, душераздирающий текст о 9/11 и статью о фестивале омаров в штате Мэн, которая превращаются в неуместный (для гастрономического журнала) и одновременно закономерный (Уоллес не против потроллить читателя, обращаясь к метаироническим категориям) вопрос: чувствуют ли омары боль, когда их варят заживо? И конечно же, репортаж с «Adult Video News Awards» — так называемый «Оскар» для порноиндустрии. В фирменной манере Уоллес детально изображает контингент, собравшийся на церемонии награждения, и размышляет на тему того, какое место порнография занимает в жизни каждого американца. Вместе с каждым эссе Дейва Уоллеса вы получаете аж целых два произведения: само эссе и сноски в конце эссе, которые интересно изучать даже в отрыве от основного текста. И еще, я считаю Уоллеса последним великим классиком мировой литературы.
Знаю, вместо подборки интересных книг получилось сумбурное полотно пространных размышлений об авторах и творчестве. Плюс некоторые произведения/сборники я рассмотрел кратко и поверхностно — иначе я бы никогда не закончил этот текст. Но что есть, то есть. Искусство (и литература, в частности) всегда провоцирует меня зафиксировать поток сознания в виде лонгрида. Благодарю за внимание.