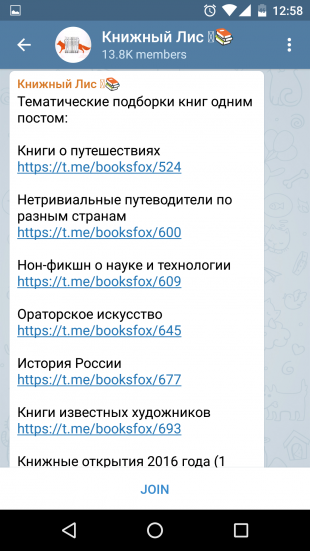Да будет вам известно, что жил в прежние времена один вдовый князь, который столь дорожил своей единственной дочерью, будто ничего другого, кроме нее, не видел в целом свете. Для нее он держал искусную мастерицу, которая учила ее вышивать тамбуром, плести кружева, искусно делать бахрому и строчку и при этом выказывала ей такие теплые чувства, что невозможно описать. Но вот отец женился в другой раз. И взял он за себя некую злую и коварную женщину; и, будто подстрекаемая дьяволом, начала эта проклятая женщина питать отвращение к падчерице, постоянно строить ей рожи, да гримасы, да страшные глаза, так что бедная малышка все время жаловалась мастерице на мачехины обиды, говоря ей: «Ах ты боже мой, если бы не она, а ты могла быть мне мамочкой – ты, которая даешь мне столько тепла и ласки!»
И столько тянула она эту песню, что удалось таки ей запустить мастерице муху в ухо, и та, введенная в искушение бесенком, однажды говорит ей: «Если будет тебе угодно поступить с этой дурной башкой так, как она с тобой, то я стану тебе матерью, а ты станешь мне вместо зрачка в глазу».
Не дав ей договорить, Цеццолла (так звали девушку) отвечала: «Прости меня, что прерываю твою речь. Знаю, как ты меня любишь, и потому молчи, довольно того, что ты сказала. Учи меня мастерству, а остальное сама сделаю. Ты пиши, а я подпишусь». – «Так давай же, – подхватила мастерица, – открой уши да хорошенько слушай, и станет твой хлеб белей, чем яблонев цвет. Как только пойдет отец из дому, скажи мачехе, что хочешь себе выбрать одежду из тех ветхих, что лежат в чулане в большом сундуке, чтобы сберечь те, что теперь на себе носишь. А она то и рада видеть тебя в заплатах да в рванье. Откроет сундук, чтоб выбрать, что поплоше, а тебе скажет: „Придержи крышку“. Пока будет рыться внутри, ты крышку то и отпусти, чтоб упала со всей силы да шею бы ей и переломила. Когда это сделаешь – а ты ведь знаешь, что отец твой на все готов, хоть фальшивые деньги бить, лишь бы только ты довольна была, – выпадет случай, когда он тебя приласкает, а ты у него и попроси, чтобы он взял меня в жены. Сделаешь меня счастливой, и будешь госпожой всей жизни моей».
Как услышала это Цеццолла, стал ей каждый час длинней тысячи лет. И наконец удалось выполнить ей в точности все, чему научила мастерица. И когда прошел траур по несчастной мачехе, стала Цеццолла жать отцу на все клавиши, чтобы женился на мастерице. Сперва князь почел это за шутку; но дочка, как говорится, столько колотила плашмя, что пробила острием: потому что в конце концов согласился он на ее слова и, взяв в жены Кармозину (как звали мастерицу), устроил великое празднество.
И вот, пока молодые наслаждались любовью, вышла Цеццолла на террасу в своем доме, и тут одна голубка, перелетев через каменную ограду, подлетела к ней и говорит: «Когда будет тебе в чем то нужда, пошли кого нибудь попросить об этом у голубки тех фей, что живут на Сардинии; и вскоре это получишь».
Новая мачеха дней пять или шесть окуривала Цеццоллу дымом ласки: и на почетное место ее сажала, и вкусные кусочки ей подкладывала, и наряды лучшие на нее надевала; но, когда прошло немного времени, послала все эти любезности за дальнюю гору и начисто забыла про оказанную ей услугу (о, горе душе, имеющей злую госпожу!). А вместо того стала поднимать повыше своих шесть дочерей, которых до той поры таила, и так закрутила мужем, что он принял к сердцу падчериц и выкинул из сердца собственную дочь. Вплоть до того, что – сегодня сама отдашь, а завтра сыскать негде – перевели ее из покоев на кухню, из под балдахина – к очагу, от роскошных вещей золотых да шелковых – к тряпью, от скипетров – к вертелам, и не только положение ее переменилось, но даже имя, и вместо девушки Цеццоллы все стали звать ее Кошкой Золушкой.
Вышло так, что князю понадобилось отбыть на Сардинию по делам своего княжества. И стал он спрашивать, с первой до последней, у Империи, Каламиты, Фьореллы, Диаманты, Коломбины и Паскуареллы, то есть у всех шести своих падчериц, чего им хотелось, чтобы он привез им оттуда в подарок. И одна попросила наряд, в чем в люди выходить, другая – убор для волос, третья – румян для лица, четвертая – безделушек всяких, чтоб время проводить: одна одно, другая другое. Наконец после всех, будто в насмешку, сказал и дочери: «Ну а ты чего бы хотела?» А та отвечала: «Ничего, только скажи обо мне голубке тамошних фей, чтобы прислала мне чего нибудь. Только если забудешь, то не сойти тебе с места ни вперед, ни назад. Да держи крепко в голове, что я тебе сказала; ибо что у кого на уме, тот то и делает».
Отправился князь в путь, уладил свои дела на Сардинии, купил все, что просили у него падчерицы, а про Цеццоллу из головы и выпустил. Но когда сел на корабль и подняли парус, то не смог корабль выйти из порта. И думали, что сопротивные течения не дают ему выйти. Корабельщик, уже почти отчаявшись, в изнеможении лег уснуть: и увидел во сне фею, которая сказала ему: «Знаешь, почему не можете вы из порта выйти? Потому, что князь на корабле у тебя не исполнил слова, данного дочери: ни о ком не забыл, кроме той, что от плоти и крови его рождена».
Проснулся корабельщик, рассказал сон князю, и он, смущенный своей необязательностью, пошел в пещеру к феям и, рассказав им о дочери, попросил, чтобы они передали ей какой нибудь гостинец.
И тут выходит из пещеры девушка, прекрасная, будто знамя вознесенное, и говорит князю, что благодарна его дочке за добрую память и что ей дорога ее признательность. И с этими словами дает ему побег финиковой пальмы, золотую мотыжку, золотое ведерко и шелковую салфетку – все для того, чтобы посадить и возделать пальму. Удивленный такими дарами, князь распрощался с феей и отправился в свою страну. Здесь он одарил падчериц всем, что каждая из них просила, а после всех и дочери передал гостинцы, что послала фея.
И Цеццолла с такой радостью, что разве из кожи вон не выпрыгивая, посадила пальму в красивый горшок и стала рыхлить землю и окапывать, утром и вечером поливать, салфеткой шелковой утирать – столь прилежно, что в четыре дня выросла пальма в рост женщины. И вышла из нее фея и говорит: «Скажи, чего тебе надобно?» И Цеццолла сказала, что хотела бы иногда выходить из дому, только лишь бы сестры о том не проведали. И фея ей в ответ: «Как захочется тебе из дому выйти, подойди к моему горшку и скажи:
Пальмочка моя золотая,
мотыжкой золотой я тебя окопала,
из ведерка золотого тебя поливала,
платочком шелковым утирала;
сними с себя, надень на меня!
А когда вернешься и захочешь раздеться, тот же стих повтори, только конец перемени: „Сними с меня, надень на себя!“»
И вот настал день праздника. Вышли в свет мачехины дочки, все расфуфырены, наряжены, накрашены, все в завитушках, в побрякушках, в безделушках, надушены всеми цветками, лепестками, мимозами и розами. Тогда и Цеццолла подбежала скоренько к горшку, проговорила слова, что научила фея, – и вышла вся разукрашенная точно королева. И, севши на коня – а следом двенадцать пажей, такие все опрятные да нарядные, – поехала, куда поехали сестрицы. Ну и слюнки же у них потекли, как увидали они эту голубку ясную!
Но угодно было Случаю, что довелось быть в том месте и королю. И он, увидев невероятную красоту Цеццоллы и весьма очарованный ею, приказал самому верному слуге вызнать все, что возможно, об этой красоте из красот: кто она такова и где обитает.
И слуга не мешкая поехал за нею следом; но она, остерегаясь слежки, рассыпала за собой по дороге горсть золотых монет, которыми снабдила ее пальма на этот случай. Слуга, увидав золотые, выронил узду и стал наполнять руки да карманы монетами, а она мгновенно проскользнула в дом, где разделась так, как научила ее фея. А тут и эти чучела сестрицы приехали и, чтобы ее поддеть, принялись ей рассказывать, где были и что видели.
Тем временем и слуга вернулся к королю и тоже рассказал, как было дело с монетами. Разгорелся король великим гневом и говорит ему: «За пару грошей говенных ты своего господина желание продал! Но теперь любою ценой обязан ты разведать, кто есть сия прекрасная девица и в коем гнездышке сей сладкий птенчик таится».
Настал другой праздник. И поехали сестрицы, все разнаряжены да напомажены, оставив бедную Золушку у очага. И побежала она бегом к пальме и проговорила те слова, что и в первый раз. И вышла из пальмы целая куча придворных девушек: одна зеркало держит, другая воду подносит, третья – для кудрей завивку, четвертая – притиранья с румянами, пятая – шпильку для прически, шестая – с платьем спешит, седьмая – с венцом алмазным да с ожерельями. И, украсив ее, словно солнце, посадили в карету, запряженную шестеркой лошадей, а на запятках стоят стремянные да пажи в ливреях. И, прибыв в то место, где был праздник, повергла она в великое изумление сердца сестриц, а в груди у короля разожгла сильнейшее пламя.
А когда поехала к себе и принялся слуга ее выслеживать, она, чтобы не дать себя догнать, разбросала по дороге пригоршнями жемчужины и камни драгоценные; и, пока слуга остановился собрать их (ибо не таковы были те вещи, чтобы мимо пройти), она выручила время добраться до дому и переодеться, как и в прошлый раз.
Приплелся слуга к королю, весь дрожа от страха, а тот говорит ему: «Клянусь душой всех умерших моих сродников, если ты мне ее не разыщешь, таких тебе колотушек задам и столько пинков в задницу получишь, сколько волос у тебя в бороде».
Настал, однако, и еще праздник. И выехали сестрицы, а она снова к пальме, твердя тот же волшебный стих. И разоделась в великолепие безмерное, и села в карету золотую со столькими слугами спереди и сзади, будто бы куртизанку именитую застали на прогулке и окружили стражи и сыщики. И когда распалила ревность сестриц, уехала, а слуга понесся следом за ее каретой, точно нитка за иголкой. Она, видя, что он ни на шаг не отстает, кричит: «Ну ка, подбавь жару, кучер!» – и помчалась карета во всю прыть, и так скоро неслась, что с ножки ее слетела туфелька – такая, что свет не видывал штучки изящнее. Слуга, не сумевши догнать карету, что летела птицей, подобрал туфельку с земли и принес королю, рассказав все, как было.
Король взял в руки туфельку и говорит: «Если фундамент столь прекрасен, то каков же сам дворец! О дивный канделябр, на котором стояла свеча, воспламенившая меня! О треножник прекрасного сосуда, в котором кипит моя жизнь! О чудный поплавок, держащий леску Амура, которой уловлена моя душа! Вот я сжимаю, я лелею тебя в руках моих и, коль не могу достать до вершины сего древа, буду хотя бы обожать его корни! И если не дотягиваюсь до капители сей возвышенной колонны, буду лобызать основание! Ты была стелой белейшей на свете ножки, но теперь стала силком, где уловлено мое почерневшее от нетерпения сердце! На тебе высится эта пальма, что тиранствует над моей душой; но из тебя же растет и мое наслаждение жизнью, от одного того, что смотрю на тебя, оттого, что обладаю тобою!»
И, сказав так, зовет он писаря, командует трубачу – и при громких звуках «ту ту ту!» провозглашает указ, чтобы все женщины той страны сошлись на всеобщий праздник и на пир, который он затеял сотворить. И когда настал назначенный день, о милые мои, – какое объедение, какое выдалось раздолье! Откуда понанесли столько творожных пирогов с цукатами апельсинными, пирогов с сырами благоуханными, откуда явились такие мяса тушеные, такие биточки зажаренные, откуда макарончики и пельмешечки! Да столько всего, что впору целое войско накормить!
Сошлись тут все женщины: благородные и худородные, богатые и убогие, старые и малые, пригожие и безобразные, – и, когда прихорошились сколь могли, король, как возгласили ему здравицу, стал примерять туфельку то к одной, то к другой, и так по порядку ко всем приглашенным, глядя, кому она придется ровнехонько впору, чтобы по форме и размеру туфельки узнать ту, которую он разыскивал. Но, не найдя ноги, к которой она хорошенько подошла бы, остался в огорчении.
Однако, приказав всем молчать, он объявил: «Завтра все возвращайтесь опять на мое мученье; но если любите меня, смотрите в оба, чтобы ни одна в дому не осталась, какая ни есть».
Тогда князь вспомнил и говорит: «Есть у меня дочка, да всегда сидит дома, следит за очагом, ибо слишком дурна собой и недостойна сидеть за столом вашего величества». Король на это говорит: «Вот она то и будет первой в списке, ибо такова моя королевская воля».
На том разошлись, а на следующий день опять воротились. И теперь вместе с дочками Кармозины пришла и Цеццолла. И король, только лишь увидав ее, сразу сообразил, что она и есть; но сделал покуда вид, будто ни о чем не догадался.
Вот закончилась за столом молотьба яств, и настало время пробовать туфельку. И не успели ее поднести к ножке Цеццоллы, как она сама выскочила из рук и, словно живая, села на ножку этому расписному яичку Амура, как магнит притягивает железо. И король, лишь только увидев, подбежал, стиснул ее в объятиях, посадил с собою под балдахин, увенчал короной и повелел, чтобы все воздали ей честь и поклонение как своей королеве. А сестрицы, глядя на такое дело и лопаясь от зависти – ибо поистине утроба их не могла стерпеть такого сердечного надрыва, – убрались подобру поздорову домой к матушке, признав, хоть и против воли, что глуп, кто со звездами спорит.