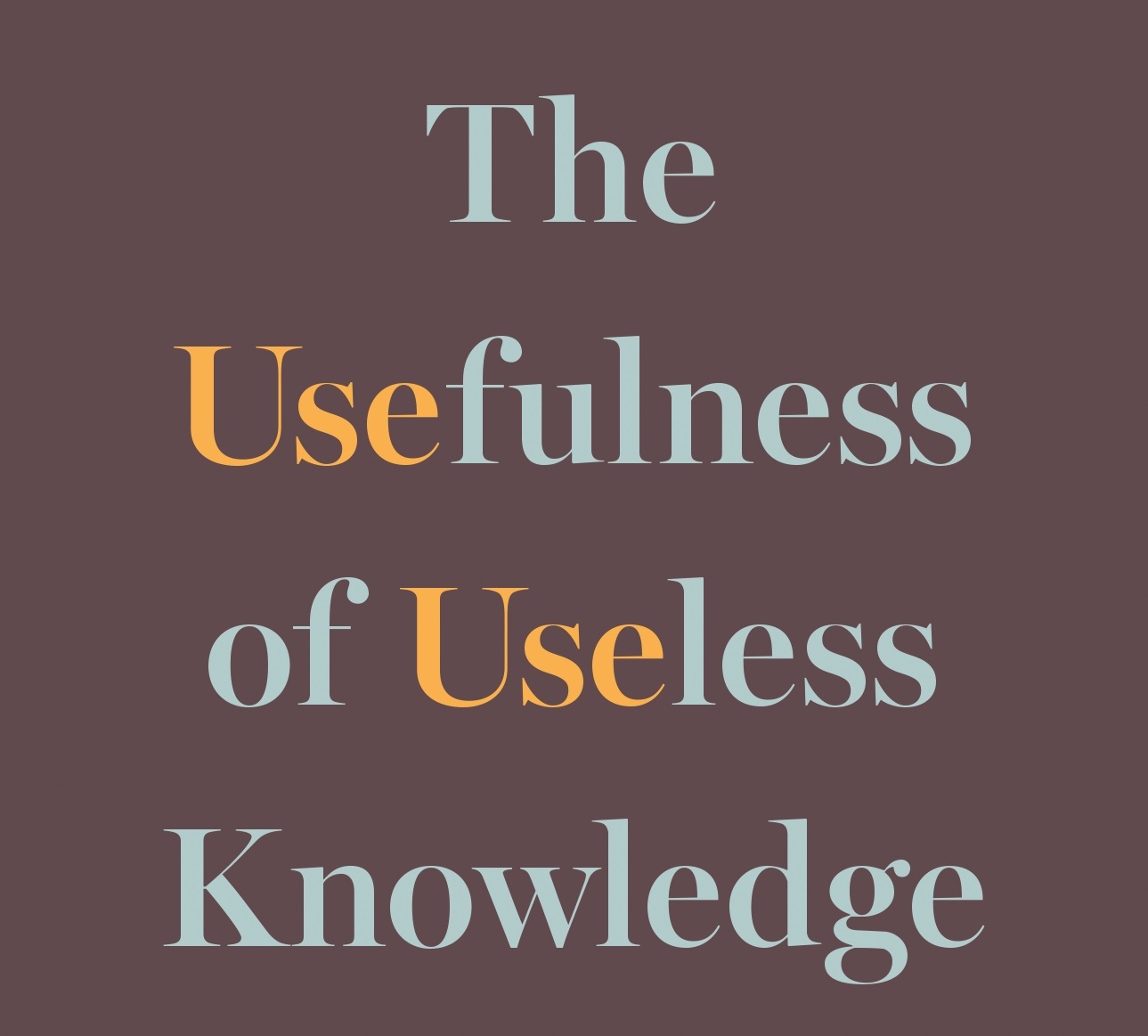
Разве не удивительно, что в мире, погрязшем в необоснованной ненависти, угрожающей самой цивилизации, мужчины и женщины, и стар, и млад, частично или полностью отделяются от злобного потока будничной жизни, чтобы посвятить себя культивированию красоты, распространению знаний, лечению болезней, уменьшению страданий, как будто в это же самое время не существует фанатиков, приумножающих боль, уродство и мучения? Мир всегда был печальным и запутанным местом, и все же, поэты, художники и ученые игнорировали факторы, которые, если бы на них обращали внимание, парализовали бы их. С практической точки зрения интеллектуальная и духовная жизнь, на первый взгляд, это бесполезные виды деятельности, и люди занимаются ими потому, что так они достигают большей степени удовлетворенности, нежели в обратном случае. В данной работе меня интересует вопрос, в какой момент погоня за этими бесполезными радостями неожиданно оказывается источником некой целесообразности, о которой и не мечтали.
Нам снова и снова твердят, что наш век – это век материального. И главное в нем – это расширение цепочек распределения материальных благ и мирских возможностей. Возмущение тех, кто не виноват в том, что они лишены этих возможностей и справедливого распределения товаров, уводит значительное число студентов от наук, которыми занимались их отцы, в сторону настолько же важных и не менее актуальных предметов, изучающих социальные, экономические и государственные вопросы. Я ничего не имею против такой тенденции. Мир, в котором мы живем, единственный мир, данный нам в ощущениях. Если не улучшать и не делать его справедливее, миллионы людей продолжат уходить из жизни молча, в печали, с горечью. Я сам много лет умолял о том, чтобы наши школы имели четкое представление о мире, в котором их ученикам и студентам предназначено провести свою жизнь. Иногда я задаюсь вопросом, а не стало ли это течение слишком сильным, и будет ли достаточно возможностей для ведения полноценной жизни, если мир избавить от бесполезных вещей, придающих ему духовную важность. Другими словами, не стало ли наше понятие о полезном слишком узким, чтобы оно могло соответствовать меняющимся и непредсказуемым возможностям человеческого духа.
Этот вопрос можно рассмотреть с двух сторон: с научной и гуманистической, или духовной. Давайте сначала рассмотрим с научной. Мне вспомнился разговор, который состоялся несколько лет назад с Джорджом Истманом на тему пользы. Мистер Истман, мудрый, вежливый и дальновидный человек, одаренный музыкальным и художественным вкусом, говорил мне, что он намерен вложить свое огромное состояние в продвижение обучения полезным предметам. Я осмелился спросить его, кого он считает самым полезным человеком в мировой научной сфере. Он тут же ответил: «Маркони». А я сказал: «Какое бы удовольствие мы ни получали от радио и как бы ни обогащали человеческую жизнь прочие беспроводные технологии, по факту вклад Маркони незначителен».
Мне не забыть его изумленное лицо. Он попросил меня объяснить. Я ответил ему что-то вроде: «Мистер Истман, появление Маркони было неизбежно. Реальную награду за все, что было сделано в сфере беспроводных технологий, если такие фундаментальные награды могут присуждаться кому-нибудь, заслуживает профессор Клерк Максвелл, который в 1865 году провел некоторые непонятные и труднодоступные для понимания вычисления в сфере магнетизма и электричества. Максвелл привел свои абстрактные формулы в своем научном труде, опубликованном в 1873 году. На следующем заседании Британской ассоциации профессор Г.Д.С. Смит из Оксфорда объявил, что «ни один математик, пролистав эти труды, не может не осознать того, что в данной работе представлена теория, которая в значительной степени дополняет методы и средства чистой математики». В течение последующих 15 лет другие научные открытия дополнили теорию Максвелла. И наконец, в 1887 и 1888 годах все еще актуальную на тот момент научную проблему, связанную с определением и доказательством электромагнитных волн, являющихся носителями беспроводных сигналов, разрешил Генрих Герц, сотрудник лаборатории имени Гельмгольца в Берлине. Ни Максвелл, ни Герц не задумывались о полезности своей работы. Такая мысль просто не приходила им в головы. Они не ставили перед собой практичной цели. Изобретателем в юридическом смысле, конечно, является Маркони. Но что же он изобрел? Всего лишь последнюю техническую деталь, которая сегодня является устаревшим принимающим устройством под названием «когерер», от которого уже почти везде отказались».
Герц и Максвелл могли ничего и не изобрести, но именно их бесполезная теоретическая работа, на которую наткнулся умный инженер, и создала новые средства коммуникации и развлечений, что позволило людям, чьи заслуги относительно малы, снискать славу и заработать миллионы. Кто же из них был полезным? Не Маркони, а Клерк Максвелл и Генрих Герц. Они были гениями и не задумывались о пользе, а Маркони был умным изобретателем, но думал лишь о выгоде.
Имя Герца напомнило мистеру Истману о радиоволнах, и я предложил ему спросить физиков из университета Рочестера о том, что конкретно сделали Герц и Максвелл. Но в одном он точно может быть уверен, что они свою работу выполнили, не задумываясь о практическом применении. И на протяжении всей истории науки большинство действительно великих открытий, в итоге оказавшихся крайне выгодными для человечества, были совершены людьми, которыми двигало не желание быть полезными, а лишь желание удовлетворить свое любопытство.
Любопытство? — спросил мистер Истман.
Да, — ответил я, — любопытство, которое может привести, а может и не привести к чему-то полезному, и которое, возможно, является выдающейся характеристикой современного мышления. И это не вчера появилось, а возникло еще во времена Галилео, Бейкона и сэра Исаака Ньютона, и должно оставаться абсолютно свободным. Институтам образования следует уделять внимание культивированию любопытства. И чем меньше они отвлекаются на раздумья о незамедлительности применения, тем вероятнее они внесут вклад не только в благополучие людей, но и, что не менее важно, в удовлетворение интеллектуального интереса, который, можно сказать, уже стал двигающей силой интеллектуальной жизни в современном мире.
II
Все сказанное о Генрихе Герце, о том, как он тихо и незаметно работал в уголке лаборатории имени Гельмгольца в конце XIX века, все это справедливо и для ученых и математиков по всему миру, живущим несколько веков назад. Наш мир беспомощен без электричества. Если говорить об открытии с самым непосредственным и перспективным практическим применением, то мы сойдемся во мнении, что это электричество. Но кто совершил те фундаментальные открытия, которые привели к возникновению всех разработок на основе электричества в течение последующих сто лет.
Ответ будет интересным. Отец Майкла Фарадея был кузнецом, а сам Майкл был учеником переплетчика. В 1812 году, когда ему уже было 21, один его друг отвел его в Королевский институт, где он прослушал 4 лекции по химии от Гемфри Дэви. Он сохранил записи, и выслал их копии Дэви. В следующем году он стал помощником в лаборатории Дэви, и решал химические задачи. Два года спустя он сопровождал Дэви в путешествии на материк. В 1825 году, когда ему было 24 года, он стал директором лаборатории Королевского института, где он провел 54 года своей жизни.
Вскоре интересы Фарадея сместились в сторону электричества и магнетизма, которым он посвятил остаток своей жизни. Ранее в этой области важной, но трудной для понимания работой занимались Эрстед, Ампер и Волластон. Фарадей разобрался с трудностями, которые они оставили нерешенными, и к 1841 году преуспел в изучении индукции электрического тока. Четыре года спустя началась вторая и не менее блестящая эпоха в его карьере, когда он открыл влияние магнетизма на поляризованный свет. Его ранние открытия привели к бесчисленному количеству практических применений, где электричество снизило нагрузку и увеличило число возможностей в жизни современного человека. Таким образом, его поздние открытия к практическим результатам приводили гораздо меньше. Изменилось ли что-то для Фарадея? Абсолютно ничего. Полезность его не интересовала ни на одном из этапов своей непревзойденной карьеры. Он был поглощен разгадыванием тайн вселенной: сначала из мира химии, а затем и из мира физики. Он никогда не задавался вопросом о полезности. Любой намек на нее ограничил бы его неугомонное любопытство. В итоге результаты его деятельности все же нашли практическое применение, но это никогда не была критерием для его непрерывных экспериментов.
Возможно, в связи с настроениями, окутывающими мир сегодня, пришло время выделить тот факт, что роль, которую играет наука в превращении войны во все более разрушительное и ужасающее действо, стала неосознанным и непреднамеренным побочным продуктом научной деятельности. Лорд Рэлей, президент Британской ассоциации содействия развитию науки, в недавнем обращении обратил внимание на то, что именно человеческая глупость, а не намерения ученых, ответственна за разрушительное использование людей, нанятых для участия в современной войне. Невинное изучение химии углеродных соединений, которое нашло бесчисленное множество применений, показало, что воздействие азотной кислоты на такие вещества как бензол, глицерин, целлюлоза, и т.д., привело не только к появлению полезного производства анилинового красителя, но и к созданию нитроглицерина, который можно использовать как во благо, так и во вред. Чуть позже Альфред Нобель, занимаясь этим же вопросом, показал, что смешав нитроглицерин с другими веществами, можно производить безопасные в использовании твердые взрывчатые вещества, в частности – динамит. Именно динамиту мы обязаны своим прогрессом в горнодобывающей промышленности, в строительстве таких железнодорожных туннелей, которые сейчас пронизывают Альпы и другие горные цепи. Но, конечно же, политики и солдаты злоупотребляли динамитом. И винить в этом ученых все равно что обвинять их в землетрясениях и наводнениях. То же самое можно сказать и про отравляющий газ. Плиний погиб из-за того, что надышался двуокисью серы во время извержения вулкана Везувия почти 2000 лет назад. И хлор ученые не для военных целей выделили. Все это справедливо и в отношении иприта. Использование этих веществ можно было ограничить благими целями, но когда усовершенствовали самолет, люди, чьи сердца были отравлены, а мозги испорчены, осознали, что самолет, невинное изобретение, результат длительных беспристрастных и научных усилий, можно превратить в инструмент для таких масштабных разрушений, о которых никто и не мечтал, и даже не задавался такой целью.
Из области высшей математики можно привести почти несчетное число подобных случаев. Например, самая непонятная математическая работа XVIII и XIX веков называлась «Неевклидовая геометрия». Ее создатель, Гаусс, хоть и был признан своими современниками как выдающийся математик, не решался опубликовать свои труды по «Неевклидовой геометрии» четверть века. На самом деле, сама теория относительности со всеми своими бесконечными практическими значениями была бы совершенно невозможна без работы, которую провел Гаусса во время своего пребывания в Гёттингене.
Опять же, то, что сегодня известно как «теория групп», было абстрактной и неприменимой математической теорией. Ее разработали любопытные люди, чье любопытство и копошение вывели их на странную тропу. Но сегодня «теория групп» — это база квантовой теории спектроскопии, которую повседневно используют люди, понятия не имеющие о том, как она появилась.
Все теория вероятности была открыта математиками, чьим истинным интересом было рационализировать азартные игры. С практическим применением не получилось, но зато эта теория подготовила почву для всех видов страхования, и послужила основой для обширных областей физики XIX века.
Я приведу цитату из недавнего номера журнала Science:
«Ценность гения профессора Альберта Эйнштейна достигла новых высот, когда стало известно, что ученый физик-математик 15 лет назад разработал математический аппарат, который сейчас помогает разгадывать тайны удивительной способности гелия не затвердевать при температурах, близких к абсолютному нулю. Еще до симпозиума Американского химического сообщества по межмолекулярному взаимодействию профессор Ф. Лондон из парижского университета Парижа, ныне приглашенный профессор в университете Дьюка, приписал профессору Эйнштейну заслугу за создание концепции «идеального» газа, которая появилась в работах, опубликованных в 1924 и 1925 годах.
Отчеты Эйнштейна за 1925 год были не о теории относительности, а о проблемах, у которых, казалось, в то время не наблюдалось практической значимости. В них описывалось вырождение «идеального» газа в нижних пределах температурной шкалы. Т.к. было известно, что все газы переходят в жидкое состояние при рассматриваемых температурах, ученые, скорее всего, упустили из виду работы Эйнштейна пятнадцатилетней давности.
Однако, недавнее открытие в динамике жидкого гелия придало новую ценность концепции Эйнштейна, которая оставалась все это время в стороне. При охлаждении у большинства жидкостей повышается вязкость, уменьшается текучесть, они становятся более липкими. В непрофессиональной среде вязкость описывают фразой «холоднее патоки в январе» (в оригинале «colder than molasses in January»), что, на самом деле, верно.
Между тем, жидкий гелий – это обескураживащее исключение. При температуре, известной как «дельта-точка», а это лишь 2,19 градусов выше абсолютного нуля, жидкий гелий течет лучше, чем при более высоких температурах и, на самом деле, он почти такой же мутный, как газ. Еще одной загадкой в его странном поведении является высокая теплопроводность. В дельта-точке она в 500 раз выше, чем у меди при комнатной температуре. С учетом всех своих аномалий жидкий гелий представляет собой главную загадку для физиков и химиков.
Профессор Лондон заявил, что интерпретировать динамику жидкого гелия лучше всего через восприятие его как идеального газа Бозе-Эйнштейшна, используя математический аппарат, разработанный в1924-25 гг., а также с учетом концепции электропроводимости металлов. Через простые аналогии удивительную текучесть жидкого гелия можно объяснить лишь частично, если изобразить текучесть как нечто похожее на блуждание электронов в металлах при объяснении электрической проводимости».
Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. В области медицины и здравоохранения бактериология полвека играла ведущую роль. Какова ее история? После Франко-прусской войны в 1870 г., правительство Германии основало великий Страсбургский университет. Его первым профессором по анатомии был Вильгельм фон Валдейер, а в последствии и профессор анатомии в Берлине. В своих мемуарах он отмечал, что среди студентов, что поехали с ним в Страсбург во время своего первого семестра, был один неприметный, самостоятельный, невысокий молодой человек семнадцати лет по имени Пауль Эрлих. Обычный курс анатомии состоял из препарирования и микроскопического исследования тканей. Эрлих почти не уделял внимания препарированию, но, как заметил в своих мемуарах Вальдейер:
«Я почти сразу заметил, что Эрлих может долгое время работать за своим столом, полностью погруженный в микроскопическое исследование. Более того, его стол постепенно покрывается цветными пятнами всех видов. Когда я однажды увидел его за работой, я подошел к нему и спросил, что он делает со всем этим пестрым набором цветов. После чего этот молодой студент первого семестра, скорее всего, изучающий обычный курс анатомии, посмотрел на меня, и вежливо ответил: «Ich probiere». Эту фразу можно перевести как «я пробую/пытаюсь», или как «я просто дурачусь». Я сказал ему: «Очень хорошо, продолжайте дурачиться». Вскоре я увидел, что без каких-либо наставлений с моей стороны, я обрел в Эрлихе студента необычайного качества»
Вальдейер поступил мудро, когда оставил его в покое. Эрлих с переменным успехом прошел свой путь через медицинскую программу и, наконец, получил диплом, в основном, потому, что его преподавателям было очевидно, что он и не собирался практиковаться в медицине. Затем он поехал во Вроцлав, где работал у профессора Конхайма, преподавателя нашего доктора Уэлча, основателя и создателя медицинской школы Джонса Хопкинса. Не думаю, что идея полезности когда-либо приходила Эрлиху в голову. Ему было интересно. Он был любопытен; и продолжал дурачиться. Конечно, это его дурачество управлялось глубинным инстинктом, но то была исключительно научная, а не утилитарная мотивация. Во что же это вылилось? Кох и его помощники основали новую науку – бактериологию. Теперь эксперименты Эрлиха проводил его сокурсник Вайгерт. Он окрашивал бактерии, что помогало их различать. Сам Эрлих разработал способ многоцветной окраски мазков крови красителями, на которых основано наше современное знание о морфологии кровяных телец: красных и белых. И каждый день тысячи больниц по всему миру используют технику Эрлиха в исследовании крови. Таким образом, бесцельное дурачество в прозекторской Вальдейера в Страсбурге переросло в основной элемент ежедневной медицинской практики.
Я приведу один пример из промышленности, взятый наугад, т.к. их десятки. Профессор Берл из технологического института Карнеги (Питтсбург) пишет следующее:
Основателем современного производства синтетических тканей является французский граф де Шардонне. Известно, что он использовал решение
III
Я не говорю, что все, что происходит в лабораториях, в конечном итоге найдет неожиданное практическое применение, или что практическое применение и есть реальное обоснование всей деятельности. Я ратую за то, чтобы упразднить слово «применение», и освободить человеческий дух. Конечно, мы таким образом освободим и безобидных чудаков. Конечно, мы таким образом истратим впустую некоторое количество денег. Но что гораздо важнее, так это то, что мы избавим человеческий разум от оков, и выпустим его навстречу приключениям, которые, с одной стороны, привели Хейла, Резерфорда, Эйнштейна и их коллег на миллионы и миллионы километров вглубь самых отдаленных уголков космоса, а с другой стороны, высвободили безграничную энергию, заточенную внутри атома. То, что сделали Резерфорд, Бор, Милликен и другие ученые из чистого любопытства в попытках понять строение атома, выпустило силы, способные преобразовать жизнь человека. Но нужно понимать, что такой итоговый и непредсказуемый результат не является обоснованием своей деятельность для Резерфорда, Эйнштейна, Милликена, Бора или любого из их коллег. Но давайте оставим их в покое. Возможно, ни один руководитель в сфере образования не способен задать направление, в рамках которого тем или иным людям следует работать. Потери, и я снова это признаю, кажутся колоссальными, но на деле все не так. Все суммарные затраты в развитии бактериологии ничто по сравнению с выгодами, приобретенными из открытий Пастера, Коха, Эрлиха, Теобальда Смита и других. Этого бы не было, если бы мысль о возможном применении завладела их умами. Эти великие мастера, а именно ученые и бактериологи, создали такую атмосферу, преобладавшую в лабораториях, в которой они просто следовали своему естественному любопытству. Я не критикую такие учреждения как инженерные училища или юридические школы, где неизбежно доминирует полезность. Нередко ситуация меняется, и практические сложности, с которыми сталкиваются в промышленности или лабораториях стимулируют появление теоретических изысканий, способных или не способных решить поставленную задачу, но которые могут подсказать новые способы взгляда на проблему. Эти взгляды могут на тот момент быть бесполезными, но с зачатками будущих достижений, как в практическом смысле, так и теоретическом.
С быстрым накоплением «бесполезного» или теоретического знания возникла такая ситуация, при которой стало возможным приступать к решению практических проблем с научным подходом. Не только изобретатели, но и «истинные» ученые балуются этим. Я упомянул Маркони, изобретателя, который, будучи меценатом для человеческой расы, на самом деле лишь «воспользовался чужими мозгами». Эдисон из той же категории. А Пастер был другим. Он был великим ученым, но он не отстранялся от решения практических задач, таких как состояние французского винограда или проблемы пивоварения. Пастер не только справлялся с экстренными трудностями, но и извлекал из практических задач некоторые перспективные теоретические заключения, «бесполезные» на тот момент, но, вероятно, некоторым непредвиденным образом «полезные» в будущем. Эрлих, по сути своей мыслитель, энергично взялся за проблему сифилиса и с редким упрямством работал над ней, пока не нашел решение немедленного практического применения (препарат «Сальварсан»). Открытие инсулина Бантингом для борьбы с диабетом, а также экстракта печени в результате совместной работы Майнота и Уиппла для лечения пернициозной анемии, относятся к одному и тому же классу: оба эти открытия совершены учеными, которые понимали, как много «бесполезных» знаний было накоплено людьми, равнодушными к практическому значению, и что настало самое подходящее время, когда нужно задать вопросы практичности научным языком.
Таким образом, становится очевидно, что нужно быть осторожным, когда научные открытия полностью присваиваются одному человеку. Почти каждому открытию предшествует длинная и сложная история. Кто-то что-то нашел тут, а другой – там. На третьем шаге настиг успех, и так далее, пока чей-то гений не соберет все воедино и не внесет свой решающий вклад. Наука, как и река Миссисипи, берет свое начало из небольших ручейков в каком-нибудь далеком лесу. Постепенно, другие потоки увеличивают ее объем. Так, из бесчисленного множества источников, и формируется шумная река, прорывающая плотины.
Я не могу всесторонне осветить этот вопрос, но могу вскользь сказать так: на протяжении ста или двухсот лет вклад профессиональных училищ в соответствующие виды деятельности, скорее всего, будет состоять не столько в обучении людей, которые, возможно, завтра станут инженерами-практиками, юристами, или врачами, сколько в том, что даже в погоне за исключительно практическими целями будет выполняться огромный объем, по-видимому, бесполезных работ. Из этой бесполезной деятельности появляются открытия, которые вполне могут оказаться несравненно более важными для человеческого разума и духа, чем достижение полезных целей, ради которых и создавались училища.
Факторы, которые я привел, выделяют, если это выделение необходимо, колоссальную значимость духовной и интеллектуальной свободы. Я упоминал экспериментальную науку и математику, но мои слова также справедливы и в отношении музыки, искусства и прочих способов выражения свободного человеческого духа. Тот факт, что это приносит удовлетворение душе, стремящейся к очищению и возвышению, и есть необходимое основание. Обосновывая таким образом, не ссылаясь явно или неявно на полезность, мы определяем причины существования колледжей, университетов и научно-исследовательских институтов. Институты, освобождающие последующие поколения человеческих душ, имеют полное право на существование, не смотря на то, вносит тот или иной выпускник так называемый полезный вклад в человеческое познание, или нет. Поэма, симфония, картина, математическая истина, новый научный факт, – все это уже несет в себе необходимое обоснование, которое требуют университеты, колледжи и научно-исследовательские институты.
Предмет обсуждения в данный момент обладает особой остротой. В определенных областях (особенно в Германии и Италии) сейчас стараются ограничить свободу человеческого духа. Университеты преобразовали так, чтобы они стали инструментами в руках тех, кто придерживается определенных политических, экономических или расовых убеждений. Время от времени, какой-нибудь беспечный человек в одной из немногих сохранившихся в этом мире видов демократий даже поставит под вопрос фундаментальную важность абсолютной академической свободы. Истинный враг человечества прячется не в бесстрашном и безответственном мыслителе, будь он правым или нет. Истинный враг – это человек, который пытается запечатать человеческий дух так, чтобы он не смел расправить свои крылья, как однажды это произошло в Италии и Германии, а также в Великобритании и США.
И мысль эта не нова. Именно она сподвигла фон Гумбольдта основать берлинский университет, когда Наполеон завоевывал Германию. Именно она вдохновила президента Гилмана открыть университет имени Джонса Хопкинса, после чего каждый университет в этой стране в большей или меньшей степени стремился перестроиться. Именно этой идее будет верен несмотря ни на что каждый человек, ценящий свою бессмертную душу. Однако причины духовной свободы уходят гораздо дальше, чем подлинность, будь то в области науки или гуманизма, т.к. это подразумевает терпимость ко всему многообразию человеческих различий. Что может быть глупее или смешнее чем основанные на расе или религии предпочтения и антипатии в масштабах истории человечества? Людям хочется симфоний, картин и глубоких научных истин, или им нужны христианские симфонии, картины и наука, или иудейские, или мусульманские? А может египетские, японские, китайские, американские, немецкие, русские, коммунистические или консервативные проявления бесконечного богатства человеческой души?
IV
Я полагаю, что из самых впечатляющих и незамедлительных последствий нетерпимости к всему иностранному можно выделить быстрое развитие института перспективных исследований, основанном в 1930 году Луисом Бамбергером и его сестрой Феликс Фульд в городе Принстоне штата Нью-Джерси. Он был расположен в Принстоне частично из-за приверженности основателей штату, но, насколько я могу судить, также и потому, что в городе находилось небольшое, но хорошее отделение магистратуры, с которым возможно самое тесное сотрудничество. Институт обязан Принстонскому университету настолько, что это никогда не будет оценено по достоинству. Институт, когда уже значительная часть его персонала была набрана, начал работать в 1933 году. На его факультетах работали именитые американские ученые: математики Веблен, Александер и Морс; гуманисты Меритт, Леви и мисс Голдман; журналисты и экономисты Стюарт, Рифлер, Уоррен, Эрл и Митрани. Сюда же следует добавить ученых не менее значимых, которые уже сформировались в университете, библиотеке, и лабораториях города Принстона. Но институт перспективных исследований в долгу перед Гитлером за математиков Эйнштейна, Вейля и фон Неймана; за представителей гуманитарных наук Херцфельда и Панофского, а также за целый ряд молодых людей, которые в последние шесть лет оказались под влиянием этой выдающейся группы, и уже усиливают позиции американского образования в каждом уголке страны.
Институт, с точки зрения организации, самое простое и наименее формальное учреждение, которое только можно придумать. Он состоит из трех факультетов: математический, факультет гуманитарных наук, факультет экономики и политологии. В состав каждого из них входила постоянная группа профессоров и ежегодно меняющаяся группа сотрудников. Каждый факультет ведет свои дела так, как посчитает нужным. В пределах группы каждый человек сам решает, как распоряжаться своим временем и распределять свои силы. Сотрудников, приехавших из 22 стран и 39 вузов, если их считали достойными кандидатами, в США принимали несколько групп. Им предоставляли такой же уровень свободы, как и профессорам. Они могли работать с тем или иным профессором по договоренности; им разрешено было работать и в одиночку, консультируясь время от времени с тем, кто мог бы быть полезен.
Никакой рутины, никаких разделений между профессорами, членами института или посетителями. Студенты и профессора Принстонского университета, а также члены и профессора института перспективных исследований так легко смешивались, что были практически неразличимы. Культивировалась учеба сама по себе. Результаты для индивидуума и общества не входили в область интересов. Никаких собраний, никаких комитетов. Таким образом, люди с идеями наслаждались условиями, которые способствовали размышлению и обмену мнениями. Математик может заниматься математикой, ни на что не отвлекаясь. То же верно и для представителя гуманитарных наук, и для экономиста, и для политолога. Численность и уровень значимости административного отдела были сведены до минимума. Людям без идей, без способности концентрироваться на них, в этом институте было бы неуютно.
Возможно, я смогу кратко пояснить, приведя следующие цитаты. Для того, чтобы привлечь профессора Гарварда для работы в Принстоне, было выделено жалование, и он написал: «Каковы мои обязанности?». Я ответил: «Никаких обязанностей, только возможности».
Способный молодой математик, проведя год в Принстонском университете, пришел со мной попрощаться. Когда он собирался уже было уходить, он сказал:
— Возможно, вам было бы интересно узнать, что этот год значил для меня.
— Да, — ответил я.
— Математика, — продолжил он. – быстро развивается; литературы очень много. Уже 10 лет прошло с тех пор, как мне присвоили докторскую степень. Некоторое время я успевал за своим предметом исследования, но в последнее время это делать стало существенно труднее, и появилось чувство неуверенности. Теперь же, после года, проведенного здесь, у меня открылись глаза. Забрезжил свет, и стало легче дышать. Я раздумываю над двумя статьями, которые вскоре хочу опубликовать.
— Сколько это продлится? – спросил я.
— Пять лет, возможно, десять.
— А что потом?
— Я вернусь сюда.
И третий пример из недавнего. Профессор из одного крупного западного университета приехал в Принстон в конце декабря прошлого года. Он планировал возобновить работу с профессором Морей (из университета Принстона). Но тот предложил ему обратиться к Панофскому и Сваженскому (из Института перспективных исследований). И вот он работает со всеми тремя.
— Я должен остаться, — добавил он. – До следующего октября.
— Вам тут будет жарко летом, — сказал я.
— Я буду слишком занят и слишком счастлив, чтобы обращать на это внимание.
Таким образом, свобода не ведет к застою, но она таит в себе опасность переработок. Недавно жена одного английского члена Института спросила: «Неужели все работают до двух часов ночи?»
До настоящего времени у Института не было своих корпусов. На данный момент математики гостят в Файн-Холле Принстонского отделения математики; некоторые представители гуманитарных наук – в МакКормик-Холле; другие работают в разных уголках города. Экономисты сейчас занимают зал в Принстонском отеле. Мой кабинет расположен в офисном здании на Нассау стрит, среди владельцев магазинов, стоматологов, юристов, приверженцев хиропрактики, а также ученых Принстонского университета, проводящих исследование местных органов власти и населения. Кирпичи и балки не играют роли, как это уже доказал президент Гилман в Балтиморе где-то 60 лет назад. Тем не менее, нам не хватает общения друг с другом. Но этот недочет будет исправлен, когда для нас построят отдельное здание под названием Фулд-Холл, чем уже и занялись основатели института. Но на этом формальности должны закончиться. Институт должен оставаться маленьким учреждением, и он будет придерживаться мнения, что коллектив института хочет иметь свободное время, чувствовать себя защищенным и быть свободным от организационных вопросов и рутины, и, наконец, должны быть условия для неформального общения с учеными из университета Принстона и прочими людьми, которых время от времени могут заманить в Принстон из дальних регионов. Среди таких людей были Нильс Бор из Копенгагена, фон Лауэ из Берлина, Леви-Чивита из Рима, Андре Вейль из Страсбурга, Дирак и Г. Х. Харди из Кэмбриджа, Паули из Цюриха, Леметр из Лёвена, Уейд-Джери из Оксфорда, а также американцы из университетов Гарварда, Йеля, Колумбии, Корнелла, Чикаго, Калифорнии, университета имени Джонса Хопкинса и других центров света и просвещения.
Мы не даем себе обещаний, но мы лелеем надежду на то, что беспрепятственное следование за бесполезными знаниями скажется и на будущем, и на прошлом. Однако мы не используем этот довод в защиту института. Он стал раем для ученых, которые, как и поэты с музыкантами, обрели право делать все так, как им хочется, и которые достигают большего, если им это позволить.
Перевод: Щёкотова Яна


